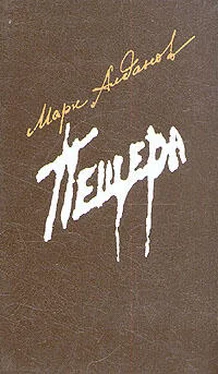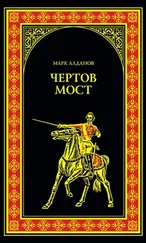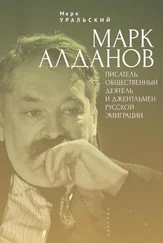Несмотря на ранний час, уже горели фонари. Длинная скучная улица шла с легким уклоном вверх. По сторонам одинаковые ветхие трехэтажные дома с худыми, бедными, тускло освещенными лавками. Браун рассеянно вглядывался в вывески. «Comité d’action artisanale de Calvados»… [287]Это, вероятно, товарищи… Вот и маленькое утешение: о товарищах больше ничего никогда не буду слышать. «Jouber, cordonnier»… «Episserie Savary»… [288]Та ли еще улица? Да, rue d’Auge…» Ему сначала показалось странным, что монастырь выстроен в столь сером, непоэтическом, безотрадном месте, «А впрочем, так и должно быть: если в душе ничего нет, то не поможет и „берег живописного озера“… А кто в самом деле ищет уединения, благочестия, „созерцательной жизни“, тому внешняя поэзия не нужна. Чем будничнее, тем, должно быть, и лучше: ты здесь посозерцай, по соседству с кальвадосскими товарищами…» И так странно, неестественно ему показалось, что Сергей Федосьев оказался в монастыре, в маленьком нормандском городе, что, быть может, здесь пройдут его последние годы… Впереди, высоко, горел огонек. Браун долго шел, рассеянно на него глядя. Вдруг он остановился пораженный, вспомнив свой сон. «Это огонь монастыря? Нет, просто фонарь…» Огонек горел как будто посредине мостовой, вспыхивая дрожащей звездочкой. «Все вздор, — сказал себе Браун, — самый обыкновенный фонарь…» Пошел дальше, стараясь туда не смотреть; но изредка, вопреки своей воле, все же бросал взгляд вверх: огонек, приближаясь, становился ярче. «Все вздор… Да, жалкая, убогая улица… Очень холодно, — вздрагивая думал он. — Да, не стоило приезжать… После разговора я зайду в кофейню, надо выпить грога: тоже в последний раз… С ним мы пили коньяк в Паласе… Что же он тут делает? Как проходит его день? Не круглые же сутки созерцательная жизнь? Что делает по вечерам? Или вот так, как я, тоскливо бредет по этой скучной улице, смотрит на этот фонарь?..» Огонь теперь горел близким, неприятным, почти ослепительным светом.
По правой стороне показался длинный, идущий уступами, забор. Браун догадался, что это началась монастырская усадьба. За забором уютно мигали огоньки. Тот огонь не имел к монастырю отношения. «Самый обыкновенный фонарь… Казался посредине потому, что загибается улица… Сейчас увижу Федосьева. Как спросить? О чем разговаривать с ним? Он и не ждет меня, — писал: „приезжайте весной…“ Не объяснять же, что мне откладывать неудобно. Он предложил бы мне свою пещеру, для этого главным образом и писал… У тех, „при современном состоянии науки“, есть и с одной стороны, и с другой стороны, — у него официально никаких сомнений быть не может. Его пещера со всеми удобствами, хоть на вид казалась еще жестче, еще тоскливей моей. Но при нашем с ним сходстве, при изомерии, — как могут быть разные пещеры? Вот сейчас и выясним», — равнодушно думал Браун, подходя к огромной коричневой двери с глазком, с почтовым ящиком. Он позвонил. Огонь исчез за уступом стены.
Ничего не было слышно. Браун позвонил опять. На стене была надпись: «Eau de la ville» [289]. «Да, обыкновенно, просто, без условной поэзии, так и должно быть…» За дверью послышались неторопливые шаги. Что-то мелькнуло у глазка. Дверь отворилась. На пороге показался старый монах, в коричневой, дважды перевязанной веревкою рясе, с умным, спокойным, добродушным лицом. Браун поклонился. В ту же секунду он услышал издали звуки пенья.
— Что вам угодно? — ласково спросил монах.
— Нельзя ли увидеть… Федосьева? — сказал Браун, неясно вставив что-то перед фамилией. Монах попросил его войти. Обстановка передней была тоже самая простая, будничная, не поэтическая. Звуки пенья стали слышнее: вероятно, где-то в соседнем помещении происходила спевка хора. Браун прислушался. Мелодия показалась ему знакомой. Слышны были и слова, — не латинские, а французские: «Ayez pitié de l’angoisse de tant de cæurs affligés…» [290]— разобрал Браун. Он только теперь с неловким чувством заметил, что по дороге усиленно настраивал себя на иронический тон. «Нет, все это очень просто, хорошо, даже величественно. Никакой поэзии и не надо…»
— Его сейчас нет, — ответил монах. — Вы могли бы повидать его завтра утром, в приемные часы.
— Мне необходимо сегодня. Никак нельзя?
Монах помолчал, внимательно в него вглядываясь.
— Сейчас его нет. Вероятно, скоро вернется. Если вам необходимо, вы могли бы, пожалуй, наведаться опять, через полчаса. Но лучше завтра…
— Если можно, я хотел бы сегодня, — повторил Браун, стараясь вспомнить мелодию, которую пел хор. Ему показалось, что это из Баха.
Читать дальше