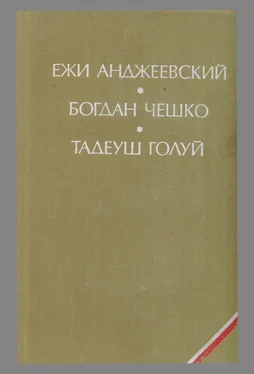— Нет, возвращаюсь. Приеду сразу же после праздников. Есть указание о мерах предосторожности, тебе скажут в комитете, не относись к этому слишком легко.
— Меры предосторожности? Уж нет ли у тебя мании преследования? Думаешь, на всех твоих бабенок готовят покушение? Меры предосторожности, меры предосторожности, — ну совсем как в добрые старые времена, когда ты был моим супругом.
— Кася!
Она пожала плечами. По худому лицу пробежала судорога, каштановые волосы рассыпались по щеке.
— Веселого рождества, — сказала она. — Супруге и сыну также. Как вы его назовете?
— Не знаю. Ганка хочет Петром.
— Хорошее имя. Ты моя опора, и на ней воздвигну храм свой. Трижды отрекся и так далее. Только умоляю: не говори сейчас, что я должна выйти замуж и обзавестись собственным Петрусем, ибо взор твой исполнен состраданья.
— Ты расстроена.
— Еще бы, конец года — не шутки, взгляни. — Она кивнула головой в сторону груды бумаг. — Работы на всю ночь.
— Ну, тогда желаю «веселого рождества», Кася.
1— Люди говорят: буду о тебе думать. Повтори!
— Буду о тебе думать.
Праздники я провел дома, но «у телефона», поскольку комитет круглые сутки находился в состоянии готовности. ЦК прислал для распределения среди работников аппарата немного хлопчатобумажной ткани, чулок и полотна, так что удалось сделать Ганке подарок. Из Ц. я привез елку, но игрушек не было, только родители Ганки — отец тоже приехал — настригли цветной бумаги, склеили цепи и украсили деревце. За праздничный стол сели в сумерках, жена взяла облатку и, делясь ею со мной, сказала:
— Дай нам господь счастья, мира, здоровья и силы.
На глазах у нее были слезы, когда она обнимала мать и отца, а затем, склонясь над ребенком, который лажал в коляске, сооруженной из бельевой корзины, тихий и недвижимый, вовсе расплакалась.
— Я беспокоюсь, — сказала она. — Что‑то Петрусь нездоров. Как бы бог не покарал…
Я включил приемник, но рождественских колядок не передавали, тогда поймал польскую передачу Би-Би — Си и услыхал свою любимую. Мы пели ее Там с друзьями, предпочитая всем хоралам мира «Бог родится, ночь уходит…»
— Дайте рыбу! — воскликнул тесть. Младенец жалобно заплакал.
— Выключи радио, он боится музыки, — попросила Ганка.
Я вынул сына из коляски, посадил на колени закутанного, как куклу, и показал ему огоньки свечек. Он протянул ручонку, словно желая поймать свет, и снова заплакал.
— Еще не крещеный, — принялась укорять теща. — Тянете, тянете, а ведь так нельзя. Во всем должен быть порядок.
Потом состоялось вручение подарков. Я получил от Ганки связанный ею свитер, чему очень обрадовался, а ее родители преподнесли нам серебряный столовый набор и хрустальную вазу из «западных» запасов. Пахло хвоей, грибами, сладким маком и медовухой.
— Ты мне скажи, Роман, как там, собственно, насчет политики, — начал тесть, — я совсем запутался, а ты наверняка разбираешься, что к чему.
— Оставьте политику! Не разрешаю, сегодня праздник! — закричала Ганка. Она была в своем подвенечном наряде, теперь расставленном и мешковатом, в белой блузке, туго обтягивавшей грудь. Светлые брови выщипала и подчернила, изжелта — серые волосы хранили следы прикосновений парикмахера. Б ту ночь мы спали вместе, так как родители заняли вторую тахту. Едва я погасил лампу, Ганка обняла меня и поцеловала. Я положил руку на ее набухшую грудь, она выпростала обе из выреза рубашки и прижала к ним мою голову. Ткнувшись лицом между горячих, тяжелых полушарий, ощущая губами нежную шелковистую кожу, я с минуту слушал, как бьется у нее сердце, урчит в животе, шелестят волосы, а потом спросил шепотом:
— Надо быть осторожным?
Ганка даже привстала, пришлось объяснить ей, о какой осторожности речь. Тогда, стягивая через голову рубашку, она заявила:
— Я хочу иметь детей, как господь бог велит, и мужика в постели, а не дохлятину. Я не Катажина!
И легла, заложив руки за голову, исполненная ожиданий.
— Ты запер двери? Хорошо запер? — осведомилась она. — И на цепочку тоже?
Запер я. И на цепочку тоже. Опасения еще не рассеялись, инструкция обязывала. Впрочем, я был не один в доме. В прошлом месяце из него выселили две семьи, а квартиры отдали милиционерам. Вот и сейчас оттуда доносились колядки. У родителей в соседней комнате еще скрипела тахта, где‑то стреляли ради праздника.
Когда все уже было кончено, она, не отпуская меня, заговорила:
•— Обвенчаемся, Ромек, по — настоящему, в костеле, правда? Ты обещал. Ведь Корбацкий заверил, что после выборов тебя повысят. Ты должен за этим проследить. Увидишь, все будет хорошо. Я навек твоя, Ромек, твоя, хорошо тебе? Я хочу тебя, я уже не стесняюсь, погляди.
Читать дальше