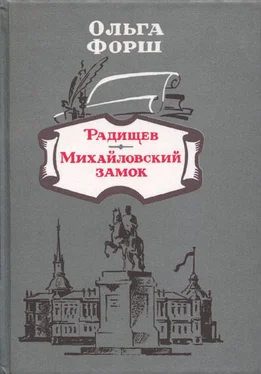Но Миша не слушал. Он уже распахнул мелкостекольное оконце и высунулся как можно далее, спустив низко голову и задрав ноги вверх.
Окно было высоко над садом. Далеко окрест круглилась пространная равнина некогда славянского сельца с бургом Липцы, ныне именитого города Лейпцига. Город с башнями без числа, с флюгерами, мостами и крепостью Плейсенбург. Равнину омывали три чистые реки, окаймленные садами и веселыми деревеньками. Красивей всего была старинная, ближняя часть, с древнейшим университетом, замысловатой ратушей и несметным количеством нарядного разноплеменного люда, распестрившего площадь перед Петерстором.
— Эй, Миша! — позвал снизу голос. — Иди сюда!..
— Ich komm! [16] Я иду! (нем.).
— заорал Миша и, сгребая с ладони Власия талеры, другой рукой шарил шляпу. Власий рванулся ему вслед на винтовую лестницу:
— «Капитафию» позабыл!
На лету схватил Миша журнал и застучал по ступенькам. Внизу его ждал человек среднего роста, немногим постарше его.
— Ну, как нонче, братец? Поспал ли хоть малость?
— Ничуть мы не спали, — ответил Радищев.
Он был бледен. Большие, карие, очень выразительные глаза от темных кругов, которыми обвела их уже не первая бессонная ночь, были просто огромны и как бы ужаснувшиеся того, чего насмотрелись они в комнате больного, за этим окном, сейчас плотно прикрытым глухими ставнями.
Хотя не было еще жарко, Радищев снял шляпу и обмахивался ею. Он обнажил высокий лоб, круто убегающий назад, под копну темных волос.
— Нонешний день для занятий, конечно, пропал, — сказал он, — ибо в первый день ярмарки коллегии все закрыты. Пойдем, выпьем чего…
— Все наши с раннего утра на Михаельсмессе… — И Миша, вспомнив про талеры, переложил их в надежное место. В кармане набрел на афишку с носорогом, протянул ее Радищеву. — Вот, сулят, видишь ли, продижьёзные [17] Чудесные.
исцеления.
Радищев на ходу пробежал быстро листок, — он бегло владел немецким, — и брезгливо поморщился.
— Ерундистика. А вот мне сказывали, у тебя имеется последний выпуск листов «Трутня». Прихватил?
Миша порылся и подал смятый журнал, где на титульном листе изображен был сатир, копытом лягающий осла.
— Очень смехотворный тут один есть стишок, я Власию его прочитал. Вот старый-то селадон! «Я, говорит, не старик, я — середович».
Миша опять повеселел и показал Радищеву стишок — «капитафию».
— Ну, братец, и это ерундистика, а вот где тут обретается некий Правдулюбов?
Радищев знал уже от проезжающих, что под этим именованием скрывается тот именно человек, коего превыше всех прочих мечтал он на родине скорей увидеть.
— А, вот и он… Ну, теперь, Мишенька, ты послушай да на ус намотай, — сказал, прояснившись, Радищев. — Станем малость тут, у фонаря. Можешь ли, Мишенька, ты понять, сколь великой важности сие место? Какова его вольность? Сколь неприкосновенна сатирическая мысль? И подумать только, кому аттестован подобный ответ — самой императрице!
И Радищев с улыбкой прочел выдержку из восьмого листа «Трутня», которую уже успел мигом пробежать про себя, одними глазами:
…Ежели я написал, что больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным потакает, то не знаю, как таким изъяснением я мог тронуть милосердие? Видно, что г-жа Всякая всячина так похвалами избалована, что теперь и то почитает за преступление, если кто ее не похвалит. Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством?…в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой даме, нет ни кнутов, ни виселиц, ни прочих слуху противных речей, которые в издании ее находятся…
Радищев подчеркнул голосом и еще однажды повторил: — …которые в издании ее находятся… Но дальше, Мишенька:
…вся ее желчь в оном письме сделалась видна. Когда ж она забывается и так мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то кажется, для очищения ее мыслей и внутренности не бесполезно ей и полечиться.
— И самое существенное, слушай, Мишенька:
Я тем весьма доволен, что Всякая всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав.
— Вот он — новый-то век Астреи! Но ужели при содействии самого трона?! — воскликнул было Радищев, но тут же одернул сам себя: — Подождем ликовать преждевременно. Ведь сие лишь справедливые предерзости Правдулюбова. Каков-то будет на них ответ от самой «пожилой дамы», им уязвляемой?.. Прибавим, Мишенька, ходу…
Радищев с Мишенькой направились через Зальцгесхен к золоченому фонтану ярмарки. Узкий переулок был уже полон студентами, — им пришлось умерить шаги.
Читать дальше