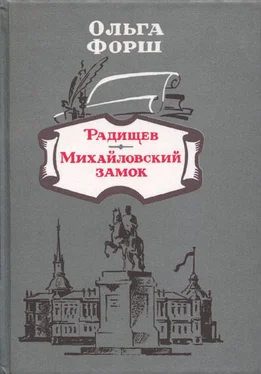— Михаил Василич, глянь-кось, что за чудо рогатое немцы на ярмарку вывезли.
Миша взял из рук дядьки афишку и стал с трудом разбирать готические завитушки.
В то время как старший брат его Федор вместе с Радищевым были любимыми учениками Геллерта и бойко писали немецкие сочинения, Миша и другие кой-кто вразумительно читать не умели. Мише больше нравилось шалопайничать и бегать в погребок к Элизхен.
— В недобрый час на наши бутылочки да Бокуму наскочить — вляпаться, Мишенька, нам в новую беду… — И дядька стал для порядка далеко под кровать загонять пустые бутылки.
— Кому ж это было их убирать, когда ты сам пьянее всех нас валялся? Хорош вчера был, старичок, нечего сказать!
— И никакой, Мишенька, я не старик, — обиделся Власий, ужимая губы. — Не старичок я, а еще вполне середович. И кой-когда, значит, сбалмышем быть мне еще по годам не зазорно…
— Середович! — захохотал Миша. — Ну, выдумал. Вот и ходи у нас отныне в своем этом втором крещении — Середович. Поразмысли, однако, откуда на ярмарку талеров раздобыть? Получки больше не будет, скоро домой ехать. Хоть продать чего из домашней русской одёжи? Не везти же обратно.
— Расторгуешься тут нашей одёжой, — очень она им к рылу! Тут, Мишенька, хоть Неметчина, а все норовят на легкий французский манер… на фу-фу. А у нас одни подошвы — пуды. Вот разве экономишку разрядить, — копить больше некуда. Дома, слава богу, не Бокумшин габерсуп. [13] Овсяный суп.
— Мне Элизхен богемские бусы на ярмарке заказала, — сказал Миша. — Бес их знает, в какой будет цене.
Власий на цыпочках подошел к Мише и, пригнувшись к уху, сказал доверительно:
— Слышь, Михаил Василич, давно тебе говорю, — истреби к этой Лизе амурность. Девке давно за двадцать, а хитра, каждый год себе двенадцать месяцев убавляет. Лукава та Лиза, насурмлена выше меры. Вскружена твоя головушка, сказать правду, зря. Главное дело — не с тобой одним Лиза гуляет…
— Наобум брешешь! — крикнул Миша. — Что ты про мои с Лизхен дела ведать можешь?
— А коли брешу наобум, Михаил Василич, все одно бери себе на ум.
— Экой Телемахов ментор сыскался! Вот оженю тебя самого для потехи на вдове твоей, на Минне, — обработает тебя! Она, говорят, первого мужа совком била. Ты уж ей, Середович, заранее и эпитафию приготовь, благо тут в «Трутне» готовая есть. Да где, бишь, листы «Трутня»? Мне их Радищеву занести сказано…
Дядька подал несколько листков и, любопытствуя, спросил:
— А какая такая капитафия, Мишенька?
— А такая, брат, капитафия, что для жены сварливой лучше и не надо. — И Миша прочел:
Здесь спит моя жена,
Вовек пусть спит она —
К покою своему
И моему.
Миша хохотал, натягивая чулки и башмаки с пряжками. Каблуки были стоптаны. Камзол и кафтан — куцые, не по росту, дрянно пошитые из линялого камлота. Гофмейстер Бокум, заботясь о переводе в собственный карман казенных сумм, нищенски обряжал свою колонию. Хотя на каждого питомца определена была по тому времени немалая сумма — тысяча рублей в год, кормил Бокум прескверно. Многочисленные жалобы досаждали царице. Между тем от ожидания, что его вот-вот могут «счесть и отозвать», Бокум напоследок все увеличивал свой грабеж.
Но Миша Ушаков такой был свежий, такой красивый, так безудержно хохотал, что и в плохом костюме нравился не одной Элизхен. В том саду с погребком, где он был усерднейшим посетителем, известен он был под сладким наименованием: «Zuckerpüppchen». [14] Сахарная куколка (нем.).
Миша Ушаков, одевшись, схватился опять за афишку. Он наконец расшифровал полностью смысл особо нарядных, в честь ярмарки, готических букв. Безусое лицо его вспыхнуло, и, как у детей перед плачем, дрогнули губы.
— Власий, — притихнув, позвал он, — понимаешь ли, что тут за посулы? От зверя от этого совсем будто особливые идут исцеления.
У Миши, по юности и по склонности нрава все чувства хоть и были отходчивы, но потрясающи и внезапны. Он ощутил пронзительное раскаяние, что вчера, упившись тяжелого пива, совсем было позабыл не отпускающую беду: любимый брат его, всеми почитаемый как наставник, душа русской колонии, Федор Ушаков в нижнем этаже этого же дома помирал в тяжелых муках.
Власий понял чувства любимого Мишеньки и постарался своим перепойным басом изъясниться с возможной деликатностью:
— Предпочтительно, Михал Василич, сей невиданный зверь нимало не вылечить, а обратно — вконец испортить способен. Приглядись-ко, ведь он, ферфлухтер, [15] Проклятый.
рогат, как бес. А вот посулила мне фрейлейн Минна от тутошнего одного колдуна травки декохтовой, противу всех болестей вызволяет. Ну, эта уж точно…
Читать дальше