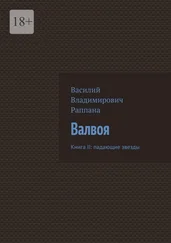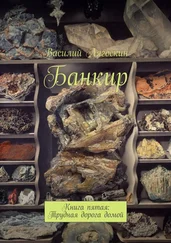— Не-ет, ну его к черту, окромя Шакала найду работу. Да и не возьмет он меня в работники. — Егор оглянулся на телегу, где, накрывшись тулупом, похрапывал Антип, и заговорил тише. — Потому не возьмет, что Настю отберу у них, к себе увезу ее. Как ты на это смотришь?
— Хм… — Не торопясь с ответом, Ермоха вынул изо рта трубку, чубуком ее медленно разгладил усы.
— Ну чего же ты молчишь? — заглядывая старику в лицо, Егор придвинулся близко. — Говори, дядя Ермоха, прямо, начистоту.
— Сроду душой не кривил.
— Ты ведь против был тогда, чтобы увез я Настю, помнишь?
— Помню. Но ведь тогда другое дело было.
— А теперь?
— Да оно… как бы тебе сказать? Конешно, Настя баба такая, што лучше ее и не сыщешь, уж я-то ее знаю как родную дочерю. Да и любовь у вас возгорелась такая, што со стороны смотреть радостно. В одном сумлеваюсь, не принято ведь эдак-то — увести чужую жену и жить с нею без венца. Как-то оно вроде неподходяще.
— Это ерунда! У нас таких случаев не бывало, а в других местах сколько угодно. Слыхал я от людей, да и сам видел в Сретенске. Живет там один, и человек-то не простого звания, а вот отбил любимую у другого, живет с ней без всяких венцов и бога хвалит.
— Ну что ж, тебе виднее. Раз такое дело, то сходись да и живи с Настей, назло Шакалам.
В ответ Егор лишь глубоко вздохнул и крепко пожал шершавую, мозолистую руку старого товарища.
* * *
Радостные дни наступили для Насти. Она словно перешагнула в другой мир, где все ей казалось в лучшем виде: и солнце здесь грело отменно ласково, ароматнее пахло сено, краше, душистее стали цветы, которых не замечала она раньше. А птицы… Только теперь убедилась Настя, как хорошо щебечут ранним утром перепелки, чуть позднее в кустах около речки на разные лады высвистывали щеглы, а днем с голубого неба серебристую трель сыпали жаворонки. Но больше всего радовало Настю то, что сбываются ее мечты, что Егор не забыл ее, а любит так же сильно, как и четыре года тому назад И недалеко уже то время, когда вернется он со службы и заживут они на зависть людям. Днем Настя, глаз не сводя, любовалась Егором, а по ночам, ласкаясь к нему, рассказывала обо всем, что пережила она за три с половиной года. О том, как тосковала о нем в первые годы разлуки, и о горькой своей жизни в богатом доме Часто во время этих рассказов обида вскипала в душе Насти, и умолкала она, заливаясь слезами.
— Что ты, Наточка! — успокаивал ее Егор. — Чего же плакать-то? Што было, то прошло. Больше уж этого не будет, да и ждать осталось недолго, каких-то полгода.
— Меня только то и спасало, что надеялась: вернешься со службы — и кончится моя каторга, — успокоившись, продолжала Настя. — А кабы не это, стала бы я жить у Шакалов? Пропади они пропадом, да и с богатством ихним!
Утром, после ночки, проведенной с милым, Настя сладко спала, а Егор вместе со всеми уходил косить. Привычные к труду руки просили работы, кипела в нем молодая горячая кровь, и он давал выход накопившейся энергии, тешился косьбой. Словно играючи, шел он, широко шагая по прокосу, далеко впереди всех. Рубаха на нем темнела, дымилась от пота, под литовкой, отлетая влево, клубилась скошенная трава. И не было среди работников ни одного молодца, который мог бы поспорить с Егором, померяться с ним удалью в работе. А когда поднималось, начинало припекать солнце и косари кончали утренний уповод, Егор опять опережал всех, бегом устремлялся к балаганам. Разгоряченный работой, смеющийся, счастливый, он с маху кидал свою литовку на балаган, принимался целовать Настю, помогал ей готовить завтрак. А если к этому времени просыпался сынишка, Егор играл с ним, то, сажая его к себе на плечи, бежал с ним па речку купаться, то качал его на руках, подкидывая кверху выше головы. Мальчик звонко смеялся, дрыгая пухлыми ножками, а очутившись на земле, просил:
— Исё, дяденька, исё!
Так повторялось изо дня в день. А каким незабываемо чудесным показался Егору первый вечер после работы. После того, как отужинали, отбили литовки, а ребятишки за балаганами развели дымокур, возле которого, спасаясь от гнуса, сгрудились спутанные кони, работники расселись вокруг ярко полыхающего костра, задымили трубками, слушая рассказы бывалого солдата Антипа. Рыжий Никита на оголенном колене сучил постегонку [36] Постегонка — дратва.
, чтобы снова заняться починкой ичигов; Ермоха принялся обстругивать новое топорище; Егор, накинув на потную спину шинель, сидел на бревне рядом с Настей. Солнце только что закатилось, и небосвод на западе окрасился нежно-опаловым цветом. Глядя на него, Настя вздохнула и, подперев щеку рукой, тихонько запела:
Читать дальше