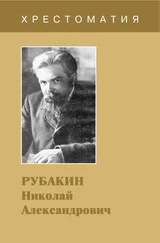Новые дальние дороги открывались перед Пушком. Азия осталась позади. Впереди ждала армянина хмурая, холодная земля. А ведь как ладно сиделось бы под крепкой кровлей, в густом тепле, у тихого очага за неторопливой беседой. Но добрым товарам не лежится под сводами складов и кладовушек; будто живые птицы, ворочаются они в мешках и коробьях, доколе не дорвутся до торга, доколе хозяева не вспорют брюхо мешкам, не срежут пут с коробьев, — тогда вывалятся товары на вольную волю, купцам на руки, разлетятся по белому свету, по городам и селениям, закрасуются на многом множестве людей, и уж никто не соберет их назад во едино место, ни в мешки, ни в коробья. Не лежится им вместе, не дремлется, манит их дальний путь, толкучий торг, умелая хватка опытных рук. Не лежится товарам, а за ними следом в дорогу тянется и сам купец.
Пришло время Пушку обновить свой кожаный лоскуток у менялы, чтобы по глухим вьюжным степям не влачиться с деньгами: спокойней поедется, когда твое достояние затаится неприметным лоскутом в складках чулка, нежели когда обвиснет оно грузным серебром или золотом в поясе на животе.
Никому не ведомо, каков выпадет путь, как встретит купцов Орда, что там за страны и что за властители, не потянутся ли шарить по одеждам да по вьюкам гостей…
И опять по гололедице пошел Пушок к астраханскому меняле, притулившемуся под горой с краю от базара. А спускаться под гору при гололедице, — и наплачешься, и насмеешься сам над собой.
Не персиянином, а хорезмийцем оказался астраханский меняла, у Пушка же всякий раз тяжелело сердце при упоминании Хорезма: неизгладимо запомнилось пробуждение среди хорезмийской степи, когда клокотала кровавая пена в рассеченной глотке ордынца, хотя никаких хорезмийцев поблизости не оказалось тогда.
Пушок не застал менялу. Лишь слуга в сером истертом полушубке сидел на тюфячке, протянув ноги под кошму, к жаровне.
Сел и Пушок на том же тюфячке, той же кошмой накрыв озябшие ноги, и сперва разглядывал перед собой кошму, нашитые на ней разноцветные лоскутки сафьяна, изображавшие бараньи рога и тюльпаны, а потом, от нечего делать, обратил взгляд на слугу менялы.
Слуга сидел, опустив тяжелое лицо, подернутое желтизной. Скосив глаза, он смотрел на Пушка, не поворачиваясь к нему. В уголках длинных темных глаз слуги, Пушку показалось, затаилась не то гордость, не то укор.
— Что ж не идет твой хозяин?
Все так же не обращая к Пушку равнодушное лицо, недоброжелательно, словно Пушок, войдя в эту затхлую конуру, провинился, слуга проворчал:
— Задержался. Базар!
Пушок размышлял: «Хорош слуга угодливый, учтивый, удалой, а этот, видно, сидень, лежебока!»
И сказал с укором:
— Хозяин с холоду придет озябший, проголодавшись. А ты его чем встретишь?
— Сам принесет.
— А ты зачем?
— Я обсчитать могу, а он недоверчив. Час проторгуется, медяк выторгует.
— Бережлив?
— Не такими наш Хорезм извечно славен.
— А кем?
— Зиждителями.
— Что это такое? — не поняв слова, насторожился Пушок.
— Вы армянин, ваш народ древнего ума. Во своей земле книги писали, песни творили, города созидали, храмы. Армяне извечные зиждители красоты, искатели мудрости. Мы — тоже. Вот что такое зиждители.
Пушку показалось, что слуга сказал это с почтением к армянам, но с пренебрежением к нему, хотя Пушок разве не армянин? Чем не армянин?
— Чем же вы… зиждители? — полюбопытствовал раздраженный Пушок. Можешь доказать?
— Пока хозяина нет, я все могу.
— Давай, с самого начала.
— С начала? Начали мы, хорезмийцы. Давно, неведомо когда. И вот уж тысячи лет наша жизнь — то созидание, то оборона от нашествий, то воссоздание, то опять оборона. Все было у нас: города, храмы, книги, песни. Почти семь веков назад явились арабы. Явился их вожак, Кутейба, и объявил нам, что их бог лучше, что во имя их бога нам надо забыть все, что тысячелетиями мы вырастили, создали, нашли. Велел нам забыть все, ибо истинная вера — у арабов, истинный разум — у арабов, а нам надо даже свою память выбросить, запомнить лишь те из истин, что истинны для арабов. Мы не согласились, мы бились, мы…
— И ты? Семь веков назад и ты бился?
— Если б я жил тогда, и я бился б. Но разве деды дедов моих не во мне? Если не во мне, в ком же они? Герои бессмертны, — в ком же ныне деды дедов моих, павших в битвах за свой народ?
— Ни у нас, христиан, ни у вас, мусульман, ничего не сказано о бессмертии на земле. Истинное бессмертие обещано лишь праведникам в садах небесных.
Читать дальше