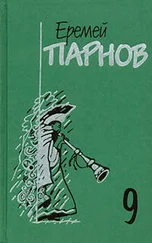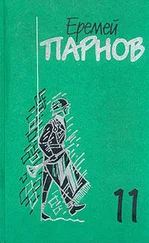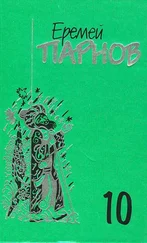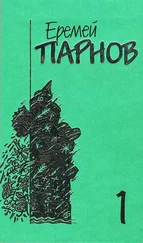...Я, само собой разумеется, не страшусь смерти... Я заранее заявляю, что не буду просить даже о помиловании, ибо я не могу каяться и просить прощения или какого-либо смягчения наказания за то, чего не делал и в чем абсолютно не повинен. Но я не могу и не намерен спокойно терпеть творимых надо мной беззаконий и прошу меня защитить от них. В случае неполучения этой защиты я еще раз буду пытаться защитить себя теми способами, которые в таких случаях единственно остаются у беззащитного, бесправного, связанного по рукам и ногам, наглухо закупоренного от внешнего мира и невинно преследуемого заключенного.
М. РЮТИН
4 ноября 1936 г. Москва,
Внутренняя тюрьма особого назначения НКВД.
В камере Рютин отказался принимать пищу. Разделявший его взгляды Слепков, один из наиболее талантливых представителей «школки», пытался после очередной голодовки покончить с собой. О методах, которыми добывались нужные показания, секретарь ЦК комсомола Лазарь Шацкин писал в заявлении на имя Сталина:
...Фактически следствие лишило меня элементарных возможностей опровержения ложных показаний. Лейтмотив следствия: «Мы вас заставим признаться в терроре, а опровергать будете на том свете»... Вот как допрашивали меня. Главный мой следователь Ген- дин составил текст моего признания в терроре на четырех страницах (причем включил в него разговоры между мной и Ломинадзе, о которых у него никаких, в том числе и ложных, данных быть не может). В случае отказа подписать это признание мне угрожали: расстрелом без суда или после пятнадцатиминутной формальной процедуры заседания Военной коллегии в кабинете следователя, во время которой я должен буду ограничиваться только односложными ответами «да» и «нет», организованным избиением в камере Бутырской тюрьмы, применением пыток, ссылкой матери и сестры в Колымский край. Два раза мне не давали спать по ночам: «пока не подпишешь». Причем во время одного сплошного двенадцатичасового допроса ночью следователь командовал: «Встать, очки снять!» и, размахивая кулаками перед моим лицом: «Встать! Ручку взять! Подписать!» и т. д. Я отнюдь не для того привожу эти факты, чтобы протестовать против них с точки зрения абстрактного гуманизма, а хочу лишь сказать, что такие приемы после нескольких десятков допросов, большая часть которых посвящена ругательствам, человека могут довести до такого состояния, при котором могут возникнуть ложные показания. Важнее, однако, допросов: следователь требует подписания признания именем партии и в интересах партии.
Гуманизм — слово чуть ли не бранное. Не о жизни растоптанной, не о муках мученических души и тела, не о матери и сестре — о партии забота на краю вечной ночи. О ризах ее непорочных, о суровой и аскетической ее чистоте.
Сталин сопроводил письмо краткой бранью.
Но с заявлением Рютина, пересланным Ежовым под длинным номером 58 562, он ознакомился очень внимательно. Такого не обломаешь, не вытащишь на процесс.
Выступление Сталина на Чрезвычайном Восьмом съезде Советов Бухарин слушал по радио. Он вложил в Конституцию частицу души, а ему не прислали даже обычного гостевого билета. Пять с половиной месяцев длилось обсуждение проекта. И почти все эти дни Николай Иванович провел в своей маленькой спальне с отдельным умывальником и туалетом. Словно в камере. В кабинет едва заглядывал: птичье щебетание раздражало, книжное слово отталкивал мозг.
«Известия» выходили по-прежнему от его имени, но это уже не могло развеять безнадежного ощущения отверженности, замурованной. Перо — каждое утро начиналось с попытки писать — выпадало из рук. Мысль витала в бесплодном, безличностном удалении: в подернутом холодной дымкой отчуждения прошлом или в будущем, где он уже не видел себя.
Не об этом ли, как обычно неторопливо и обстоятельно, рассуждал Сталин на той высокой, отделанной под палисандр трибуне с гербом?
— В то время как программа говорит о том, чего еще нет и что должно быть еще добыто и завоевано в будущем, конституция, наоборот, должна говорить о том, что уже есть, что уже добыто и завоевано теперь, в настоящем.— Он выдержал глубокую паузу и повторил, разъясняя: — Программа касается главным образом будущего, конституция — настоящего.
Многократно обкатанные обороты не задевали сознания, шурша, как галька, которую ворошит прибой. Бухарин не ощущал дикого, глумливого несоответствия между реальной действительностью и велеречивым потоком пустых деклараций. Конституция гарантировала свободу слова, печати, собраний и митингов, права объединения в общественные организации, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и тайну переписки, и прочие невиданные в истории величайшие права и свободы трудящихся.
Читать дальше