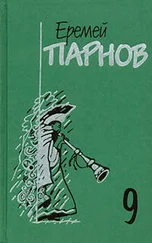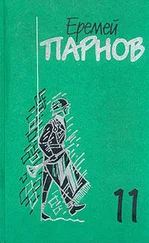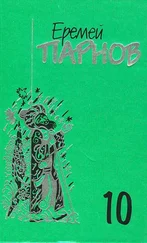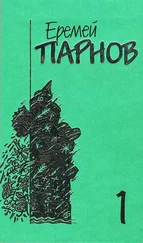«Расследовать связи Томского — Бухарина — Рыкова и Пятакова — Радека»,— призвали от лица рабочего класса участники митинга на заводе «Динамо» имени Кирова.
«По-особому прозвучал гудок,— спешно, прямо в номер, передавал репортер.— Это сбор. Никто не ушел за ворота. Пять тысяч лучших рабочих столпились тесной семьей. Лица суровы, брови нахмурены...»
Кировцы, как это и было предусмотрено, потребовали к ответу убийц трибуна революции.
В пожарном порядке, но опять-таки в соответствии с планом выскочили в «Правде» статьи Раковского («Не должно быть никакой пощады») и Пятакова («Беспощадно уничтожить презренных убийц и предателей»). «Троцкистско-зиновьевская фашистская банда и ее гетман — Троцкий» — называлось выступление Ра дека в газете «Известия». Казалось, что все три материала написаны одним пером, в одних и тех же узаконенных на злобу дня выражениях. Но яростные проклятия звучали предсмертным затравленным воплем. И, как ни странно, это дошло, подобно древнему завету: «Помни о смерти». Сам факт публикации как бы намекал на то, что разоблаченные преступники намеренно оклеветали честных людей. Дыма без огня, правда, не бывает, но бдительные органы и беспристрастный советский суд разберутся. Раковский, Радек и Пятаков возмущаются, а Бухарин почему-то отмалчивается. И Рыков, и Томский.
Субботнее утро 22 августа, когда шофер привез газету с заявлением прокурора, Михаил Павлович Томский встретил на даче в Болшево. Еще в мае двадцать девятого он был освобожден от должности председателя ВЦСПС, а год спустя выведен из Политбюро, но оставался кандидатом в составе ЦК, занимая не слишком заметную должность заведующего объединения госиздательств — ОГИЗ.
На службу, куда собирался, он уже не поехал. Под заявлением, где его имя шло первым, была подверстана большая статья. Строчки о «предательском поведении Томского» сразу бросились в глаза. Черными мушками заплясали буковки: «банда», «и сейчас скрывает свои связи»...
Последняя встреча со Сталиным окончательно определила отношения.
— А на меня кому будешь жаловаться? — Сталин, едва зашла речь о постоянных нападках в печати, с нескрываемым удовольствием взял сторону клеветников.— Слыхал басню о лягушке, которую скорпион упросил переправить его на другой берег?.. Ты что, хочешь, чтобы я поступил, как эта глупая лягушка?
Михаил Павлович отпустил машину и позвал сына.
— Я ни в чем не виноват, Юра,— он протянул сложенную газету.— Без партии жить не смогу...
Не он первый, не он последний. Тысячи, сотни тысяч повторят эти слова.
«Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии,— говорил Томский в двадцать втором году на Одиннадцатом партийном съезде.— Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы, у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме».
Свобода, любовь, честь, наконец, сама жизнь — это как бы второстепенно. Главное — партия. Потому и шли на любые унижения бывшие оппозиционеры и уклонисты, что не мыслили жизни вне партии. И давали нужные показания во имя высших интересов ее, как уверяли следователи. И умирали с ее именем на устах. Томский избрал наиболее достойный выход.
«Я обращаюсь к тебе,— писал он последние в жизни строки,— не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба — не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ним не входил, никогда заговоров против партии я не делал...»
«Тов. Сталину»,— крупно начертал на конверте.
Вскоре за дверью оглушительно хлопнул выстрел.
Ночью приехал Ежов. Разбирая, на предмет изъятия, документы, нашел паспарту с фотографией улыбающегося вождя. «Моему дружку Мишке»,— легко читалась размашистая подпись и год: 1926-й.
Смерть Томского, «запутавшегося в своих связях», как сообщили на другой день, ничем не осложнила мероприятие. Скорее напротив — подбавила непредусмотренного разнообразия, коим живая жизнь так умудренно отличается от запрограммированных инсценировок. Эти признались, те тщатся оправдаться, а Томский... Всяко бывает. Но разве подобная трусость лишний раз не доказывает вину?
Версия была высочайше утверждена, а захороненное на дачном участке тело эксгумировано работниками органов. Жену Томского, старую большевичку Ефремову, и сына Юрия отправили в лагерь. Обоих старших сыновей расстреляли. Важно было подкрепить впечатление, что главные разоблачения еще впереди, хотя процесс и приближается к логическому финалу. Собственно, это и отвечало долговременным планам, изменявшимся в отдельных деталях сообразно обстоятельствам. Вышинский видел все слабости, хотя в целом спектакль удался. За исключением Смирнова, роли были отыграны. Досадно, конечно, «военная организация», за недостатком подготовки, прозвучала слабовато, можно сказать, под сурдинку, но тут не вина, а беда. Кого дали, с теми и работали. Ни одного имени. Смирнов, Мрачковский — это тени, далекое прошлое. К тому же известно, что в начале тридцатых они были практически изолированы.
Читать дальше