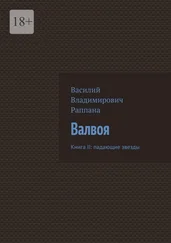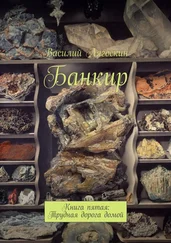На одном из таких заседаний в числе других вопросов было решено: разгрузить читинскую тюрьму, большинство заключенных амнистировать. Рабочим, служащим учреждений, рудников, железной дороги и прочих предприятий выплатить заработную плату имеющимся в наличии серебром и золотом.
В августовский ясный, но жаркий день выпустили из тюрьмы амнистированных арестантов. Вместе с другими анархистами вышел на волю и Спирька Былков. Снова повеселел Спирька, очутившись на свободе. Проходя по песчаной тюремной ограде, посмеивался он, щуря зеленые глаза, по привычке балагурил, оглядываясь на опустевший каземат, «Прощай, наша матушка-тюрьма, сгореть бы тебе дотла. А начальников бы наших лихоманка затрясла».
С привратником, когда тот раскрыл перед ним тюремные ворота, Спирька попрощался самым дружеским тоном:
— Прощай, браток, спасибо тебе за хлеб, за соль.
— Не стоит, — улыбнулся в ответ седовласый привратник-красногвардеец.
— К нам в гости пожалуйте, когда нас дома не будет, — продолжал балагурить Спирька. — А старухе твоей от меня поклон на особицу, пошли ей господи сколько лет на ногах, столько и на карачках покрасоваться.
Тут Спирька даже фуражку сдернул с головы, в пояс поклонился привратнику и под дружный хохот анархистов повел их вдоль по улице. Они еще в тюрьме условились, что после освобождения первым сборным пунктом для них будет Старый базар, туда и повел их Спирька.
Когда на базар заявился и сам Пережогин, там, на бугре возле забора, собралось уже человек восемьдесят его соратников. Остальные или еще не вышли из тюрьмы, или шлялись где-то в городе.
Небритый, заросший сивой щетиной, но по-прежнему бодрый, подвижной, подошел Пережогин к своим сподвижникам.
— Вот что, братва, — начал он, поигрывая металлическим наконечником наборчатого кавказского ремешка, — большевикам капут подходит, дорыпались. Больше мы с ними не якшаемся, хватит. А если кто из вас пожелает к ним, пожалуйста, хоть сейчас же, держать не буду.
— Куда же мы теперь? — послышались голоса.
— Всяк по-своему, что ли?
— Доигрались.
— Навоевались, кончать пора.
— А может, к Семенову податься?
— Тихо! — поднял руку Пережогин. — Дайте мне сказать. Давайте сделаем так: сейчас все вы отправляетесь в город, на весь день и кому куда любо. А к вечеру все, кто пожелает остаться с нами, приходите… — Он помолчал, припоминая что-то, поправил наборчатый поясок. — …Приходите на постоялый двор, что на Уссурийской улице, на углу, знаете? Там и договоримся обо всем, а что нам делать и как быть — это уж моя забота, понятно?!
В ответ нестройный гул:
— Понятно. Все ясно, как день.
Все, поднимаясь с земли, загомонили, заспорили. Пережогин поманил к себе пальцем Спирьку, отошел с ним в сторону, заговорил тихонько, доверительно:
— Я ухожу сейчас. А ты побудь здесь, будут еще подходить наши, объяви им то же самое, что я сказал.
— Ладно.
— Особо никого не уговаривай, не приневоливай идти с нами.
— Чего их уговаривать, вольному воля, спасенному рай.
— То-то же.
Пережогин понимал, что авторитет его среди бывших соратников сильно пошатнулся, что многие из них к нему не вернутся.
Так оно и получилось; очутившись на свободе, они разбрелись кому куда вздумалось: одни решили остаться в Чите и ждать прихода белых, другие, разбившись на мелкие шайки, устремились на Онон, в верховья Ингоды и на прииски, а многие сочли за лучшее разъехаться по домам.
К вечеру на постоялый двор, указанный Пережогиным, анархистов его пришло человек около полсотни. Все они разместились на нарах большой, как барак, комнаты. Почти каждый из них принес с собой что-нибудь из продуктов: кто булку хлеба, кто связку калачей, кто кусок мяса, а Спирька приволок полмешка всякой провизии, да еще успел где-то порядком хлебнуть хмельного, а у какой-то зазевавшейся хозяйки спроворил цветастую кашемировую шаль.
— Былков знает, где что плохо лежит. А за эдакую шаль самогонки разживусь теперь не меньше ведра, — хвастал он, сидя на нарах, подшучивая над теми, кто пришел с пустыми руками. — Эх вы-ы, сосунки. Вам бы у церкви стоять — милостыньку выпрашивать, так опять горе — подавать не будут. Не-е-ет, на любого скажут: тебе не с ручкой здесь стоять, а у зароду с вилами, вон какой балбес вымахал, об лоб-то поросенка убить можно.
«Сосунки» не обижались, посмеиваясь хвалили Спирьку, подговаривались:
— Угостил бы хоть по старой дружбе.
— Вот-вот, чем шалыганить-то.
Читать дальше