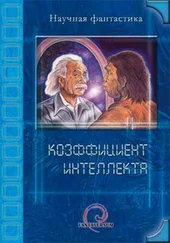— О, съюка, быляд!..
— Вот, курва, уж и по-нашенски выучился, — процедил сквозь зубы красноармеец, шагавший позади Донцова.
Речкин, обернувшись, погрозил пальцем:
— Без провокаций, товарищ боец. Думать надо: кто ты теперь и где ты…
— Да тебя уже свеличали — из старшин, чай, в капралы произвели, — не сдержался солдат. — Тебе и думать. А наше дело — топай да глазами хлопай…
Когда подошли к кучерской избе, где в толстовское время живали его кучера да конюха, пленных остановили. Возле избы на спущенных скатах стояла полуторка с фанерной кибиткой вместо кузова. На ее бортах — красные кресты, заляпанные грязью. Возле машины в мучительных позах лежали трупы красноармейцев. Судя по тому, что большинство их находилось в нижнем белье и в окровавленных бинтах, это были добитые раненые эвакуированного поутру госпиталя.
Донцов и другие пленные поначалу недоумевали, зачем это заставили их грузить мертвых соотечественников в мертвую же разбитую полуторку. И ужас подступил только тогда, когда под дулами автоматов пришлось катить машину мимо конюшни, чтобы пустить ее под угор, к затону Большого пруда. Догадавшись, что будет с несчастными, один из красноармейцев, тот, которому Речкин велел «думать, кто ты теперь есть», вдруг отпрянул от машины, какую толкал вместе с товарищами, воздел кулаки над головой и, обернувшись к немцам, заорал:
— Звери! Аль вы не солдаты!? По-божески ли так-то? Прибудет и вам…
Боец попер на конвой с обезумевшими глазами, но автоматчик почти в упор хлестнул очередью, и тот свалился наземь, не договорив «что прибудет»…
Убитого приказали бросить в кузов. По откосному угорку машина пошла своим ходом, словно ожил мотор и потянул ее вниз к притихшему пруду. Сначала она катилась ровно, будто за рулем сидел шофер, но ближе к берегу она запрыгала по кочкарнику все сильнее и сильнее, пока не подвернулся передок и ее не подбросило так высоко, словно машина наскочила на мину. Она шумно грохнулась на бок, широко разбросав убитых по зеленой осокистой луговине. В исподнем белье покойники повиделись белыми гусями, сморенными насмерть долгим перелетом…
Пленных толстовским «прешпектом» вывели к въездным башенкам усадьбы, а там дальше — на орловский большак. По нему на Тулу двигалась армада немецких танков, колонны тяжелых орудий, бронетранспортеров, свежо и бодро валила пехота. И подумалось самое страшное: кто остановит такую силу? И остановит ли?
* * *
Как оказалось, неподалеку от главной дороги, на крестьянских огородишках, на задах деревенских изб яснополянцен, в круговом частоколе конвойных формировался перевалочный сборный лагерь военнопленных. Туда-то и был сдан Донцов, Речкин и их сотоварищи по несчастью. В том становище обедованных людей находилась уже не одна тысяча душ — не сосчитать ни по штыкам, ни по звездочкам на пилотках, ни по расчетному строевому ранжиру. Это была безоружная серая шинельная масса. На лицах — испуг, досада, в глазах — один и тот же вопрос: кто предал их прежде и кого они сами предали теперь?
Но в том и другом случае всем хотелось жить, хоть как-то уцелеть, сохраниться хотя бы на лишний час, на считанные денечки, на недельку, а при удаче — на месяц и год… А там ведь что-то должно же произойти в мире! Не всем же смерть и погибель? И война тоже — не вечна ведь и она?… И чтобы как-то выжить, огородная земелька, уже убранная хозяевами и почти пустая, перепахивалась, выворачивалась наизнанку сапогами, ботинками, руками, ради ненароком оставленной картофелины, капустной кочерыжки или бурачного корешка, а то и огурца-заморыша. Все — впрок, все — в запас, чтобы неминучий голод не скоротал жизнь допреж срока. Этому упреждению наставляли те солдаты, которые уже хватили несносного лиха в окружениях и даже в плену. Всем добытым на огородах солдаты жадно набивали карманы и котелки, пилотки и уцелевшие противогазные сумки и, кто не бросил, каски.
Донцов, нащупав в шинельном кармане сохранившееся яблоко и горсть желудей с родных плавских дубов, которые собрал для него перед своей смертью комбат Лютов, тряхнул флягу с остатком воды и посчитал, что на его век хватит, словно он и не собирался жить ни завтра, ни дольше. Речкин — у него, видимо, тоже имелся какой-то потаенный запас в санитарной сумке, — как и Донцов, не стал рыться в земле. Группа бойцов, которую вогнали в лагерь вместе с Донцовым и Речкиным, быстро растворилась в шинельной массе, как будто ее и не было. Каждому, наверное, сладко-обманно думалось, что теперь-то он выживет — все тыщи пленных не расстреляешь. Глядя со стороны, казалось, что теперь никто ни в ком не нуждался, каждый действовал, кому как выгодно. И это «каждому — свое» устрашающе и заразно подействовало на Донцова. С усталости повалившись на копешку жухлой картофельной ботвы, он тоже вознамерился подумать о себе. Но ему помешал Речкин. Напугавшись одиночества, он стал назойливо льнуть к Донцову, чтобы как-то не потеряться в страхе, который нещадно навалился на его душу. Санинструктор, подсев на копешку и угнув голову к лицу Донцова, вздрагивающими губами залепетал:
Читать дальше