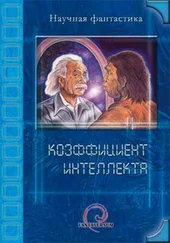Речкин, к удивлению своих же стрелков, мешая русскую речь с немецкими словами, принялся благодарить победителей за их милость. Тут же, с разрешения, он забрал из повозки санитарную сумку. Тыча пальцем в красный крест на сумке, он долго и назойливо объяснял, кто он и какого воинского звания.
— Гут, капрал! — похвально похлопал по плечу старшины немец, видно, из унтеров, и отдал команду автоматчикам вести пленных…
У Донцова собственного котелка не было, а чужой, оставшийся от убитого, брать не решился, а может, устыдился — из ближнего окопа мертвыми, замершими в ужасе глазами на него смотрел тот самый потрепанный солдатик, что с час назад язвил над Донцовым.
Пленных немцы повели через музейную усадьбу, той же дорогой, какой сами пришли сюда. Миновав луговину Юшкиного верха, по тележному мосточку перешли Воронку, минуя яснополянскую речушку, которую любил Толстой. Он любил все тут, как и всю Россию. И когда колонна миновала Калинов луг, Бисов покос и ступила на тропу Старого заказа, которая вела к могиле земного чудотворца, Донцову вдруг вспомнилось, будто это было вчера, как их учительница, дочь дьячка Николо-Кочаковской толстовской церкви, Александра Алексеевна, однажды летом привела сюда школьную детвору из его же родных Белыночей. Он вспомнил себя стоящего в лаптях и в холщовой рубахе у Великой могилы. И как-то чудно вышло тогда, что он больше глядел не на тяжелую молчаливую могилу, а в заплаканные глаза учительницы. Не стыдясь слез, она, близкая свидетельница народных похорон писателя, с трагическим чувством рассказывала детям о самом печальном дне России…
И вот теперь Донцов проходил мимо того святого места и никак не мог понять, как это случилось вдруг, что на его плечах вместо деревенской протяной рубахи оказалась казенная шинель, а вместо лаптей — армейские сапоги, и глаза совсем не узнавали ни деревьев Старого заказа, ни придорожной муравы обочь тропы, ни скорбной тишины окрест. Но те же глаза неожиданно остановили Донцова, словно перед роковой чертой, у столбушка с выкрашенной лесной зеленью фанеркой, на которой было начертано, похоже, собственноручно Толстым: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней…» Вместо того, чтобы исповедальное признание писателя дочитать до конца, Донцов отшатнулся и на какой-то миг закрыл глаза — эти слова были перечеркнуты крест-накрест автоматной очередью. И Ясная Поляна отныне принадлежала не Толстому, не России, а Германской Европе, как и все, что отдано ей с кровью за столь недолгую еще войну. Отдано с придачей миллионов людских жизней, несчетных тысяч городов и селений. Россия еще не знала такого оброка за всю многовековую историю своего существования на человеческой планете…
Кто-то из бойцов ширнул Донцова кулаком под бок, и тот, опомнившись, зашагал дальше. Но вскоре он снова уперся глазами в вывеску. На проволочной натяжке, поперек дороги, на высоте избяного конька, на куске жестяного прямоугольника, по желтому охряному полю черно и глазасто светились два слова: «Зона тишины». И эта жестянка тоже была пронизана автоматной очередью. Прошва пулевых метин напрочь перечеркивала безобидную просьбу: не говорить громкое и пустое… Но теперь победители здесь не только говорили в полный голос, но и давали полную волю своим восторгам — дурачились, дудели в губные гармошки, с радости стреляли в людей и в птиц, в пустой воздух и по деревьям, ругались на своем языке и пробовали материться по-русски. Все это видели и слышали красноармейцы, когда колонна проходила мимо житни. На взвозном помосте амбара под козырьком навеса толпилась кучка офицеров, унтеров и солдат. У их сапог стояли корзины с яблоками, точно такими же, какие привозил бойцам и Речкин. Аппетитно хрумкая, солдатня бросалась, потешаясь, огрызками друг в друга, словно игрались в снежки. Когда пленные поравнялись с амбаром, огрызки полетели в лица и головы красноармейцев. А неподалеку от амбара, у садовой изгороди двое офицеров состязались в меткости. Наложив рядом яблок на балясине оградки, они с пяти шагов стреляли в них из парабеллумов.
— Целкие, сволочи! — сплюнул под сапоги Донцов.
Шедший с ним бок о бок Речкин одернул его:
— Язык — за скулу, сержант!
Солдат-автоматчик, изрядно хвативший шнапсу, палил очередями по сорочьему гнезду, что мостилось на молоденькой жердяной осинке. Соломистый прах сыпался ему на каску, и он, одуревший с удачи, силился, как можно гаже, выругаться по-русски:
Читать дальше