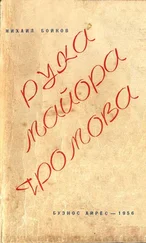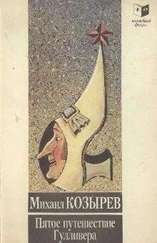По нижней кромке неба тянулась, подобно длинному горному хребту, неровная синяя полоса. Слева она поднималась острой вершиной, потом плавно опускалась, чтобы снова подняться тремя, стоящими рядом, саклями, из которых вились дымки. Правее возвышалась гигантская ель, перед ней скакали по небу два всадника в бурках, и в руке первого ярко горел красный факел, а еще правее застыли, изогнутые, нависшие над берегом волны. То, что было или есть где то на земле, повторялось закатными облаками и, возможно, кто то в далеком краю тоже смотрит на небо и видит Богатырь гору со шлемом на макушке и сидящего у пропасти человека с подогнутыми ногами и в папахе. А может, видит и очаг, и женщину, стоящую у огня.
Безмятежно спокойный мир, который открывался взгляду Озермеса, был воистину прекрасен. И Чебахан, не сводившая с него глаз, и он сам были такими же частицами этого мира, как и буки, и яворы, и летучие мыши, бесшумно носящиеся над поляной, и молчаливый, погруженный в свою вечную думу Мухарбек, и блаженно посапывающий Самыр, и комочки тумана, сползающие в черноту пропасти. Мир казался неизменным, но это было обманчиво, ибо и в прекрасном нетленном мире нарушалось то, что не должно было нарушаться — души до времени покидали свои обиталища и даже гибла не успевшая народиться жизнь.
Появления сына Озермес ждал без всяких тревог и, посмеиваясь просебя, выслушивал уверения Чебахан, что их сын уже все слышит, понимает и сердясь, толкает ее ножками. — Тебе не полагается быть возле роженицы, — снисходительно и важно рассуждала она, — я видела однажды, как рожают, знаю, что надо делать, но все же мне может понадобиться твоя помощь. Под рукой должен быть ножик и большой казан с теплой водой, — сына надо будет выкупать. Интересно, какого цвета у него будут глаза. Наверно, твои...
Чебахан позвала Озермеса ужинать. Самыр вскочил первым и побежал впереди хозяина. Он был терпелив, мог молча голодать, но на зовхозяйки всегда откликался первым. Потом, не напоминая о себе, сидел в сторонке, смотрел, как они едят, и из уголков его рта на землю свешивались ниточки слюны. Бывало, что он уходил в лес на охоту один, однако, поймав зайца, не съедал его, а приносил в зубах домой и, опустив добычу у порога сакли, ждал похвалы и вареных костей.
— Ты чего нибудь хотела? — спросил, усевшись на чурбачок, Озермес.
— Ты почувствовал, муж мой? — Чебахан прикрыла глаза своими густыми ресницами.
— Ты смотрела мне в спину, как Самыр смотрит на кость, которую я обгладываю.
Чебахан улыбнулась, блеснув зубами.
— Я смотрела так же, как он смотрит на тебя.
Озермес залюбовался ее лицом, нежным, как у косули, и таким же розовеющим, безмятежно спокойным, как закат, на который он только что смотрел. Подняв на него глаза, Чебахан потупилась. Когда она чему либо радовалась, зрачки ее, состоящие из множества крохотных огоньков, переливались, как звездочки Тропы всадника. А в ту холодную ночь зрачки были черными, затянули глаза, лицо побелело и заострилось.
Схватки начались в сумерках. Согнувшись и обхватив руками живот, Чебахан сдавленно, радуясь, объявила: — Пора! — Озермес принес побольше дров, развел огонь пожарче, поставил на камни казан с водой и, в сторонке, второй, большой, налитый водой до половины. Когда Чебахан родит, он добавит в холодную воду кипятку, и Чебахан выкупает новорожденного. В детстве Озермесу пришлось однажды увидеть, как рожала собака. Она отгрызала пуповины, съедала последы и старательно вылизывала мокрых щенят. Разложив на полу у очага волчьи шкуры, он помог Чебахан лечь, уселся по другую сторону очага, спиной к роженице и набрался терпения. На тахте Чебахан лежали пеленки, сшитые ею из старой рубашки и нарезанные на полосы мягкие оленьи кожи. В сакле было тихо, слышались лишь трудное дыхание Чебахан, треск поленьев в огне, да из оврага доносилось журчание речной воды, бьющейся о намерзший у берегов лед. Чего она тянет? — подумал Озермес. Его клонило ко сну. Он с досадой вспомнил, что забыл подсушить порох. После появления ребенка полагалось выстрелить из ружья, чтобы отогнать злых духов, если им взбредет в голову забраться в саклю и устроить какую нибудь пакость. Но теперь заниматься сушкой пороха поздно, а допускать, чтобы ружье дало осечку, совсем уж не годится, удды поймет, что ей ничего не грозит. Но вряд ли эта мерзкая старуха выберется из своего укрытия на такой мороз. А утром он просушит порох, зарядит ружье и отгонит ее.
Озермес задремал, от чего то очнулся, повернулся, чтобы подбросить в огонь полено и посмотрел на Чебахан. Она корчилась и кусала губы, однако не издавала ни звука. Роженицы, как он слышал, обычно, стонут и кричат. Озермес отвернулся, но вскоре снова посмотрел на ее искаженное от боли лицо. Сколько времени прошло после того, как он уложил ее у очага? Озермес встал и подошел к ней. — Отойди, — прошептала Чебахан. Он вернулся на свое место, но больше не отворачивался и смотрел на нее сквозь дым, поднимающийся от очага. Чебахан очень мучилась, и он стал сострадать ей. Она то подбирала, то вытягивала ноги, и каждое ее движение отзывалось в нем острой резью в животе, и со лба на глаза тек пот. Наверно, если бы она стонала и кричала, им обоим стало бы легче. Он отворачивался, снова смотрел на Чебахан, снова отворачивался и, схватившись руками за живот, сжимал зубы, чтобы не застонать, не закричать вместо нее. Время будто остановилось, и нельзя понять было, ночь ли еще или вот вот займется утро.
Читать дальше