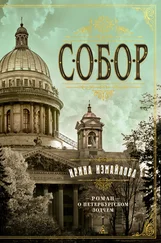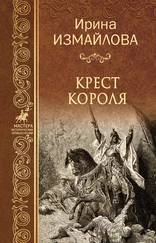Усмехаясь, он в этот момент вытаскивал злополучную трубку из начинающего тлеть рукава позолотчика Андрея Сорокина. Табак архитектор тут же вытряхнул на пол и затоптал башмаком, а трубку вернул мастеру:
— С меня пятнадцать копеек тебе, Андрей Никитич, на табак. И гривенник на заплату: рукав-то прогорел. Словом, держи двадцать пять копеек, пока даю. А впредь увижу, что здесь куришь — оштрафую на три целковых. Понял? Ну, что за вопрос, Ерема?
— А вопрос такой, — выдохнул Рожков. — Сколь еще война-то идти будет? Уж народу перебили, страшно думать, сколько. Вчера я только с инвалидом одним говорил. Из Крыму он прибыл. Так уж что там делается! И на кой ее было начинать, войну эту, раз от нее людям только горесть одна?
— От любой войны людям только горесть, — проговорил спокойно Монферран. — А начинать ли ее или не начинать, ни тебя, великий философ, ни меня отчего-то не спросили. Позабыли, верно. Пойдем жаловаться, а?
— Надо бы, — подхватывая шутку, согласился Еремей. — А кому?
— Господу богу, — сощурившись, сказал Огюст. — Но полагаю, спешить с этим не надо. И не наше с вами дело, ребята, обсуждать это. Пусть тут вокруг хоть громы небесные грохочут, хоть небо рушится, я буду собор строить! Мне до остального уже нет дела, мне, может, уже недолго жить, а я обязан успеть! И я успею, слышите, господа болтуны, что бы там ни творилось!
— А если Наполеон III в Петербург войдет, вы ему, стало быть, свой собор преподнесете, как некогда альбом Александру I? — послышался вдруг с лесов иконостаса насмешливый голос.
Огюст узнал голос Бруни. Недавно они опять перессорились, и архитектор понял, что злопамятный художник решил ему отомстить за эту ссору. Вопрос был задан по-французски, рабочие его не поняли, но они увидели, как побледнел главный.
— А ну-ка спуститесь оттуда, Федор Антонович! — крикнул он.
— Убивать меня станете? — так же ехидно спросил профессор, высовывая из-за деревянных перекладин голову в темной шапочке, слегка выпачканной краской.
— С удовольствием вас убил бы, да кто мне росписи закончит! Не хотите спускаться — я сам к вам поднимусь!
С юношеской легкостью, подхватив свою трость под мышку, архитектор взбежал на четыре яруса лесов и оказался лицом к лицу с опешившим и слегка струсившим художником.
— Вы, сударь мой, кажется, проституткою меня полагаете? — по-русски спросил Монферран.
— Помилуйте! — ахнул художник. — Что за выражения! Вы что, шуток не понимаете? Да ну вас, в самом деле!
— Мои выражения достойны ваших слов, сударь! — крикнул, краснея до корней волос, Огюст. — Вы меня попрекнули поступком, который в молодости меня вынудили совершить отчаяние и нужда… Что же, быть может, то был и не лучший из моих поступков… Но с тех пор прошло ровно сорок лет, и через два года минет сорок лет, как я живу в Петербурге. Вы слышите? Я тридцать восемь лет строю этот город! Его камни — моя плоть! И я лучше кого бы то ни было вижу, что другого такого города нет и быть не может! И вы мне говорите, что кто-то может его взять, захватить?! Да никогда! Я не поверю в это, вы слышите! Никогда!
Эта неистовая, почти детская вспышка совершенно потрясла Федора Антоновича. Он привык в последние годы видеть Монферрана сдержанным и обыкновенно невозмутимым. И вот теперь художник увидел, как задрожали губы архитектора, как забилась тонкая жилка под левым его глазом и сам глаз болезненно сощурился.
Бруни испугался.
— Август Августович, голубчик, ради бога! — забормотал он. — Я же ведь пошутил! И о каком захвате может теперь идти речь, ведь война вот-вот закончится, уже ведь начаты переговоры. Никто и никогда близко не подойдет к Петербургу. Об этом государь Петр Великий позаботился. Он так этот город выстроил, что никому не взять. И чувства ваши я понимаю… Ну, простите меня!
— Прощаю! — выдохнул Огюст, начиная понимать, что все это со стороны выглядело дико, и опасливо косясь на столпившихся внизу, под лесами, рабочих. — Только впредь не кидайтесь словами, это выглядит несерьезно, Федор Антонович. Да и заканчивайте побыстрее «Неверие Фомы». Я устал уже видеть его вот в таком начатом состоянии. Полгода возитесь с одной росписью и только голову мне морочите!
Отплатив таким образом Бруни за то, что тот сумел вывести его из себя, Огюст стал спускаться с лесов, даже не дожидаясь ответа художника. Однако на полпути главного перехватил неугомонный Рожков. Он забрался на леса, якобы проверяя прочность креплений бронзовых украшений, на самом же деле желая услышать хотя бы часть разговора Монферрана с художником, благо они говорили по-русски. От своего любопытства Еремей с годами так и не вылечился.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
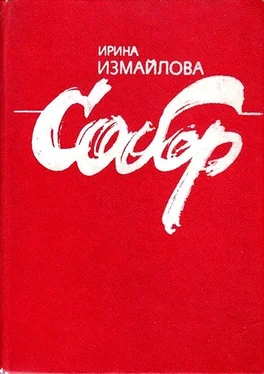

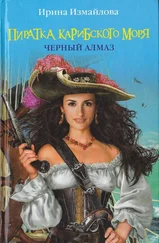




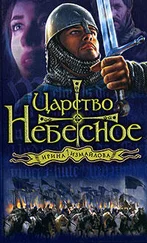
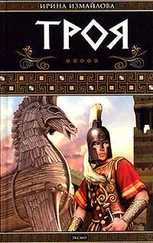
![Ирина Измайлова - Собор. Роман о петербургском зодчем [litres]](/books/432500/irina-izmajlova-sobor-roman-o-peterburgskom-zodche-thumb.webp)