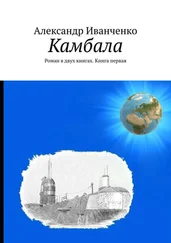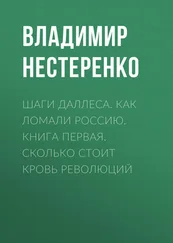В столовой гасился свет, зажигались свечи на елке, становилось тесно, таинственно, пахло воском и хвоей. Невозможно было разобрать, Петина ли это тень скачет на стене среди путаницы еловых лап или на самом деле пришел веселый паяц. Русалка Марина приближала к моему лицу загадочный взгляд, взмахивала сетями, роняла из распущенных волос бумажные водоросли. Возле елки самозабвенно кружилась белая снежинка Татка. Подбегала, теребила рукава моего восточного одеяния, тащила танцевать.
Бабушка, разумеется, никогда не наряжалась во всяких там цыганок или волшебниц. Ее усаживали во главе стола, чтобы строго судить и выбрать самый красивый костюм, за что победителю полагался особый приз.
В цыганку любила наряжаться тетя Ляля. Пышная юбка в сборку, пестрая косынка немного набок, брови, губы, щеки — все яркое. И монисто на шее. Она старательно гадала каждому по руке и нагадала мне однажды, что я стану ученым астрономом, а Татке — что она выйдет замуж за Ваню Корешкова.
Никакого Вани Корешкова в природе не существовало, но после этого в минуты размолвок мы дразнили Татку мадам Корешковой, а она обижалась.
И так же весело встречали Новый год. Детям позволяли не спать до двенадцати. Полночь дядя Костя отбивал медным пестиком по большой сковородке, имевшей замечательный колокольный голос.
Три года мы прожили на Вилла Сомейе. Если спросить, было ли у меня детство, настоящее, безоблачное, я отвечу: да, было. Вот эти три года.
После масленицы бабушка заставляла всех внуков исповедоваться и причащаться. Готовиться к исповеди было всегда волнительно. Мы прибегали к ней за советом, о каких грехах нужно говорить батюшке, а какие не заслуживают его внимания. Грехов в ту счастливую пору у нас было немного.
Татке вменялись в вину упрямство и кокетство. С первым она соглашалась, второй упрек встречала в штыки.
— Когда, вот скажите, когда я кокетничала?
Петя выступал главным обвинителем.
— Милая моя, — расшаркивался он перед нею, — не далее, чем вчера. Кто строил глазки Игорь Платонычу? Села, фуфыра, губки бантиком, смотрит искоса…
Татка брала тоном ниже.
— И вовсе нет. И все ты выдумываешь. Нужен мне твой Игорь Платоныч. Он, во-первых, старый.
Вмешивалась бабушка.
— Оставь, Петя, ты слишком строг. Всем женщинам приятно, когда на них обращают внимание.
Татка, бедная, становилась совершенно уничтоженная. Красная, как бурак, она кричала:
— Противный, Петька, противный! Я все равно батюшке про это говорить не буду! — и тут уж доставалось от нее брату. — Сам-то, сам, чистюля несчастный! Чтоб дверь открыть, платочек из кармана достанет и трет ручку, трет…
Но бабушка считала навязчивую Петину чистоплотность не грехом, а дурью.
Настоящий грех у Петеньки был. Петенька рос диким ревнивцем. Он ревновал Татку к тете Ляле, меня — к Татке или к бабушке, и вот, при случае, бабушка внушала этому новоявленному мавру, какое это нехорошее чувство — ревность. Он слушал, опустив голову, и тяжело вздыхал.
Марину упрекали за нерасторопность и молчаливость, за слишком уж исступленное увлечение рисованием в ущерб учебе. Меня — за излишнюю мечтательность и витание в облаках. Но о главном, если у кого на душе сокрытый от всех проступок, бабушка не позволяла говорить. Это уже, учила она, дело совести каждого. О тайном — только батюшке, и это лишь его право отпустить прегрешение.
Так, разобравшись во всем, мы шли на исповедь. После отпущения грехов и причастия возвращались домой чинные, благостные. Дом погружался в дрему, а бабушка начинала беспокоиться, уж не затевают ли новую каверзу ее дражайшие олухи.
Сохранилась фотография той счастливой поры. Мы сняты на ступеньках у входа в дом. В центре на стуле сидит бабушка. На ней черное платье, застегнутое у ворота дедушкиным генеральским значком. Белые волосы собраны на макушке валиком, в сузившихся плечах уже наметилась грядущая старческая сухость, хотя тело еще широко и вальяжно.
По обе стороны от нее сидят на корточках, склонив головы к ее коленям, Марина и Татка. Обе серьезно и сосредоточенно смотрят на фотографа. Тугие Маринины косы свисают почти до земли. Обе девочки в светлых платьицах и совсем еще, по правде говоря, маленькие.
Слева от бабушки на ступеньке стоит мама. Пышно взбита ее прическа, лицо лукавое, тонкий носик чуть вздернут. На ней любимое полотняное платье с мережкой, на шее нитка искусственного жемчуга. Я с порога обхватила ее за плечи и шепчу что-то секретное на ухо.
Читать дальше