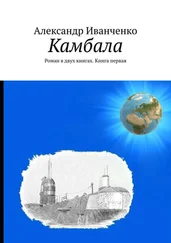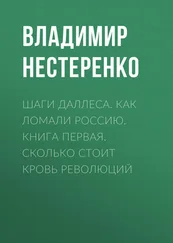Кончилась зима, наступила холодная, дождливая весна. Только в конце апреля потеплело. В комнате погасла утешительница-саламандра. Пришел май. На улицу можно было выходить без чулок. У Нины с каждым днем становилось все меньше и меньше работы, я стала ей в обузу. Сама Нина ни словом не обмолвилась, но я понимала: пора прекращать нашу совместную деятельность.
Числа двадцатого мая, в воскресенье, делала уборку, мыла полы. Залезла с тряпкой под стол протереть плинтусы. В дверь постучали. Досадуя, что не успела закончить, крикнула «войдите», — а когда высунула из-под стола голову, улыбающийся и похудевший, стоял на пороге Сережа.
Силы кончились. Я села на мокрый пол и сказала:
— Где же ты был так долго, Сереженька?
Ох, как вовремя он приехал! Но, как оказалось, не насовсем. Его отпустили на месяц для устройства семейных дел. Сережа решил забрать в Германию и меня. У меня опустились руки.
Комната на Лурмель, уже полностью благоустроенная, пришлась ему по душе, но что-то мешало принять все остальное. Я никак не могла понять, что именно. Он нехотя признался:
— Не люблю попов.
Но в тот же день он познакомился с матушкой и сразу изменил первоначальное мнение. Смотрел на мать Марию горящими глазами. Я знала за ним привычку влюбляться в людей без предварительной прикидки, с первого разговора, и радовалась. Было бы нестерпимо больно, если бы мать Мария ему не понравилась.
Матушка без обиняков спросила:
— Зачем вы, Сергей Николаевич, хотите забрать Наташу? Она так хорошо устроилась, обвыклась. И потом… ехать теперь в Германию… Нехорошо это, не ко времени.
Сережа оправдывался:
— А что делать? В Париже я работы не найду. Жить-то надо.
Матушка хмурилась.
— Тогда езжайте один. До конца контракта. А там… что-нибудь придумаем.
Не одобряла она наш отъезд. Да и меня грядущее путешествие не радовало. Бросать родных, друзей. Неизвестно еще, как оно там будет, в Германии, но, с другой стороны, жить еще целый год в разлуке, голодать… Нехотя я стала собираться в дорогу.
И все-таки этот месяц был немного и отдыхом. По вечерам мы выходили на улицу, шли в ближайшее бистро к толстой Берте, сидели за столиком, почти ничего не заказывая (заказывать было нечего), и говорили, говорили… Но сколько ни выпытывала у Сережи про Германию, толком никак не могла ничего добиться.
— Хорошо там или плохо?
Морщился, как от зубной боли.
— Не может быть там хорошо. Это совершенно чужая страна. Но платят. Ничего не скажешь, за работу платят.
Время шло. Отъезд был назначен на 25 июня. Я начала паковать вещи.
С середины июня по Парижу поползли страшные слухи. То говорили, будто Сталин согласился пропустить немцев через Кавказ в Персию, то будто бы Россия согласна отдать Украину. И еще что-то в этом духе, совершенно неправдоподобное. Но что-то готовилось. И все это, несомненно, должно было коснуться России. На Лурмель приходили люди, пересказывали слухи, тревога росла.
По вечерам Юра Скобцов запирался в комнате у матушки и слушал английское радио. Вопреки строжайшему приказу немцев мать Мария не сдала приемник. Он стоял у нее под кроватью, никак особенно не замаскированный. Английский Юра знал прилично. Лондон ловился хорошо. Вечерами дом замирал. Что-то он там наслушает? Но даже Лондон не мог внести успокоения, ничего конкретного англичане не передавали.
Однажды, часов в десять, к нам постучали. Открыла — на пороге отец Дмитрий.
— А я к вам, вечерок скоротать. Пустите?
Я обрадовалась, придвинула ему стул, предложила стакан чаю.
От чая он отказался, сказав, что Тамара Федоровна с Ладиком ушли в гости к родичам, заночуют, но перед уходом хорошенько напоили его чаем. Я вернулась к прерванной работе. Штопала носок на деревянном яичке.
— А что, отец Дмитрий, — спросил Сережа, — чем, по-вашему, кончится эта заварушка?
Тот потрогал себя за кончик носа, поправил очки.
— Плохо кончится. Войной кончится. Большой и страшной войной с Россией.
И замолчал. Сказать правду, я почти ничего не ощутила. Порвалась нитка, я взяла новую, стала вдевать в иглу. Что-то случилось с глазами. Никак не могла попасть в ушко. Тыкала, тыкала — не вдевается. Отложила штопку в сторону, воткнула иголку в подушечку, прислушалась к улице, повернувшись к окну. За окном ничего не происходило. Как обычно, если не было бомбежки, на улице стояла великая тишина. На втором этаже кто-то сильно хлопнул дверью. Я вздрогнула.
Отец Дмитрий просидел с нами весь вечер. В разговор я не вмешивалась. Меня в последнее время утомляли разговоры о политике, о войне. Смотрела на бродившего по комнате Сережу и, каждый раз, когда он приближался к кровати, поджимала ноги, чтобы свободней ему было ходить. Потом снова взялась за шитье.
Читать дальше