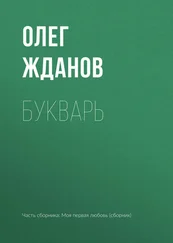Городничий Радкевич и капитан-исправник Волк-Леванович вышли из Благочинного управления одновременно и вместе отправились по городскому саду, по песочным дорожкам, между цветущих клумб, которых было, быть может, слишком много, мимо зацветающих лип, которых тоже насадили здесь слишком густо, желая вместить всю возможную и доступную городу красоту. Оба шли молча, наверно, потому, что им было о чем подумать.
— Как тебе это нравится? — спросил Волк-Леванович по-польски.
— Так же, как тебе, — тоже по-польски отозвался Радкевич.
Были темы, обсуждать которые они предпочитали на польском, то есть государственном в недалеком прошлом языке.
— Родионов просто счастлив, — заметил Волк-Леванович.
— Еще бы, — отозвался Радкевич.
— Русский, — сказал Волк-Леванович.
— Православный, — уточнил Радкевич.
Они прошли мимо Свято-Троицкой церкви, построенной уже после присоединения, мимо иезуитского коллегиума и остановились перед костелом кармелитов.
— Какой он православный! — воскликнул Волк-Леванович. — В церкви бывает только на Пасху.
Это было несправедливо, Родионов каждое воскресенье посещал Богоявленский храм, немало жертвовал на его нужды, но Радкевич с удовольствием согласился.
— Это верно, — сказал он. — Супруга его Теодора посещает чаще. Зря она перешла в православие.
— Ясно, зря.
Когда-то оба они верой и правдой служили Речи Посполитой, но переменилась жизнь, приходится служить России. Что делать? Сила солому ломит, — говорят русские. Так же говорят и поляки. Служили, однако, не хуже православных русских. Но что уж так радоваться приезду императрицы? Что изменится? Жили на краю Речи Посполитой, теперь на краю России. Есть свой образ жизни у здешних людей, ему они и следуют из поколения в поколение, а власть — одна ли, другая — помочь не может, она способна лишь усложнить жизнь. К примеру, все бумаги писали по-польски, теперь пишем по-русски. Сложность не сложность, а кровь портит еще как. Три писаря сразу ушли из Благочинного управления, троих пришлось отправлять учиться русскому письму в Смоленск. А как повалил народ из униатства в православие, особенно в первые годы после присоединения? Слава Богу, католичества это не коснулось, кто верил Святому Престолу, тот верит. Вот и они, их семьи, родители и дети, что бы ни случилось, будут верны своей церкви.
Не сговариваясь, вошли в храм, заняли привычные места, Радкевич слева от царских врат, Волк-Леванович справа. Ксендз сразу заметил их, оживился, кивнул. Они были дружны и после мессы часто встречались, чтобы обменяться словами и слухами. Служба была рядовая, верующих мало. Волк-Левановичу хотелось продолжить разговор с городничим и он раз за разом поглядывал на него, но Радкевич, похоже, погрузился в молитву или в какие-то мысли, которым очень способствовал и голос ксендза, и мягкий свет, падавший на лица верующих. Он вышел и направился проверить посты городовых, затем на съезжий двор. Городовые были каждый на своем месте, а на съезжем дворе только что выпороли известного городского пьяницу Хомку. Порол его экзекутор Прушинец, да, видно, слабо порол, пожалел дурака. По крайней мере, Хомка стоял у топчана, подтягивая штаны, и виновато улыбался. Хомке совестной суд за кражу четверти вина у Семена Баруха присудил двадцать розог, и если бы Прушинец постарался, было бы Хомке не до улыбок.
Хотелось поговорить с обер-комендантом, обсудить предстоящее событие, выяснить, какие изменения внесет оно в полицейскую жизнь.
Впрочем, особых изменений в его жизни не вызвало даже вступление российских войск в Варшаву. Следить за порядком в городе он должен при любой власти. Было у него трое городовых и два писаря — они заботились, чтобы приезжие тотчас объявлялись в полицейской канцелярии, чтобы отъезжающие сообщали время отъезда, чтобы хозяева сообщали о вновь принятых на работу и требовали надежных порук, чтобы домовладельцы регистрировали гостей даже на одну ночь. Ну а если требовалось выпороть кого-либо за нарушение порядка, было в городе несколько мужиков, которые являлись по первому зову и за малую плату охотно выполняли такую работу.
Он заглянул в канцелярию — оба писаря тотчас оторвались от своих бумаг. Судя по любопытным глазам, слух о приезде императрицы проник уже и сюда. Однако Волк-Леванович ничего не сказал им.
Радкевич в это время вышел из костела, огляделся и, не увидев капитан-исправника, вздохнул с облегчением. Не в том было дело, что, когда Волк-Леванович уходил из костела, он, Радкевич, слишком углубился в молитву, а в том, что чувствовал опасность, и опасность эта исходила от него, старого друга. Давно знал, что Волк-Леванович не примирился с разделом Польши и очень надеется, что вот-вот все вернется, снова возникнут в мире и Речь Посполитая, и Великое Княжество Литовское. Но Радкевич в такой поворот не верил. Матка Боска, какой поворот, если сам Станислав Понятовский, король, после отречения преспокойно живет в Петербурге, танцует на придворных балах с императрицей и больше не помышляет о королевской мантии. Ну, если не танцует — все ж таки пятьдесят пять лет, то играет в карты, пьет французское вино, посещает императорский театр и оперу — мало ли у них, вельмож, способов приятно проводить время? Опасность Радкевич видел в том, что Волк-Леванович не слишком скрывал свои взгляды, а правильнее — болтал почем зря, славя покойную Речь Посполитую и Великое Княжество. При Родионове, правда, помалкивал, но, как говорят немцы, то, что знают двое, знает и свинья, и Волк-Леванович вполне может поплатиться должностью. А он, Радкевич, с ним заодно, как друг и союзник. В конце концов, Волк-Леванович не прав: уж если они служат империи, то что говорить о прошлом? Оба они из мелкой шляхты и жить без жалованья было бы грустно. В общем, до приезда императрицы лучше всего прекратить эти разговоры и как можно старательнее исполнять свою городскую службу.
Читать дальше