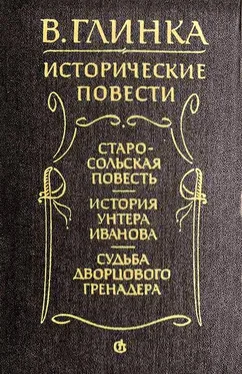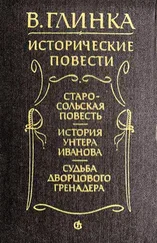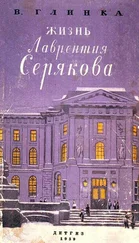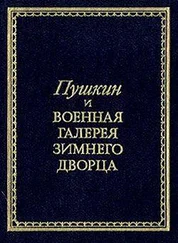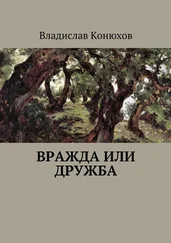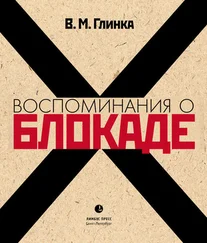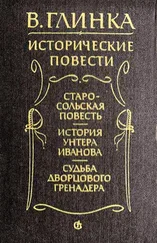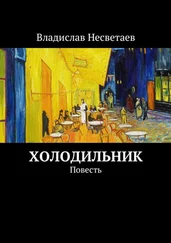В тот же вечер, уже в школе, я напомнил учителю о материнском портрете. Он тотчас извлек из ящика стола небольшую гладкую, красного дерева рамочку с акварельным рисунком и подал мне. Рассматривать я отошел к окну, где было светлее.
Девушка в знакомом мне голубом шугае, накинутом на одно плечо, и синем сарафане смотрела из отворенного окна с белым резным наличником. Ряды желтоватых бревен отходили в обе стороны и были лишь слегка тронуты кистью.
Подпертое ладонью лицо правильного овала, с плавными дугами бровей, прямым носом и чуть крупноватым свежим ртом, было повернуто в три четверти, что позволяло рассмотреть тонкие ноздри и легкую горбинку переносья. Но лучше всего в нем были глаза — большие, миндалевидные, зелено-голубые, прозрачные какие-то, они живо блестели из-под темных ресниц, и цвет их вместе с легкой тенью под нижними веками и горячим румянцем щек создавал необычайно свежее и яркое сочетание. Средней высоты чистый лоб был охвачен с обеих сторон симметричными гладкими прядями темно-русых волос, плотно обрисовывавших голову. От этой прически лицо казалось, может быть, более широким, но зато простота ее подчеркивала чистоту девичьего облика и усиливала в нем русское и народное. Лицо дышало такой задумчивой и мягкой прелестью, что я глаз не мог оторвать. Рисунок был уверен и тонок, краски смелы и живописны.
— Хороша? — спросил Яков Александрович, подошедший ко мне сзади, как когда-то, давно, в первый раз моего любования дедовской шпагой. — А похожа как!.. — продолжал он. — Я ее почти что такой в детстве своем помню… Вот так в окошке ее отец мой впервые увидел.
— А его портрета нет у вас? — спросил я.
— Как же, вот он… — и старый учитель указал на стену, где рядом с памятным мне тамбурмажором висел рисунок в рамке, одинаковой с той, что я держал в руках.
Это было уже на днях мною рассмотренное изображение очень молодого мужчины с приятным, задумчивым темноглазым лицом, опушенным небольшими бачками. Он был в белой рубашке с широко отложенным воротом и полулежал на подушках, опираясь на руку.
В чертах молодого человека было заметно сходство с Яковом Александровичем. Впрочем, общим выражением лица старый учитель напоминал, пожалуй, также тамбурмажора, а цветом и разрезом глаз — мать.
— Что это он лежит? Болен? — спросил я. — Вы говорили, он рано скончался, — так, верно, во время последней болезни его и рисовали? Потому портрет и не окончен… — высказал я пришедшую догадку.
— Нет, тут болезнь не последняя, — отвечал Яков Александрович. — Впрочем, это длинная история, так сразу не рассказать.
Я не стал расспрашивать и, должен сознаться, потому не стал, что в эти минуты меня неотступно приковывал портрет девушки. Хотелось еще и еще на него смотреть.
Вероятно, со многими бывало, особенно в юности, что нарисованное лицо привлечет к себе внимание и взволнует, как живое. Или даже больше живого, потому что черты его острым глазом художника и его мастерской рукой остановлены в самом характерном для них выражении, в котором раскрыта сущность данного человека. В лицах пожилых людей запечатлелись владевшие ими страсти и мысли, добродетели и пороки, пережитое горе, труды, обретенная мудрость или разбитые надежды, умение подчинять себе или привычка повиноваться. А если лицо молодое, без следов прошлого, то в нем читаешь вероятное будущее. Энергия или пассивность, характер свежего ума и направление мечтаний, пробуждавшаяся жажда наслаждений и различно понятого счастья, воля к созиданию или приключениям, и много еще другого, чего не перечтешь. Поэтому так интересно бывает сравнить два хороших изображения одного и того же лица. Вот чем он был и что с ним сталось…
И для меня, восемнадцатилетнего мальчика, оказался непобедимо приковывающим этот пленительный женский образ, прямо и доверчиво глянувший на меня через много разделявших нас десятилетий…
Не проходило вечера, чтобы я не простаивал перед стенкой, где водворился портрет, хоть пять-десять минут. И при этом делал вид, что изучаю всех родичей Якова Александровича, но по-настоящему смотрел только на одну девушку.
Мне сначала было достаточно просто глядеть на нее, изучать черты лица и оттенки румянца, а потом захотелось знать и то, где она жила, среди каких людей, что чувствовала, кого любила, что сталось с нею… Я только ждал удобного случая навести старого учителя на рассказ обо всем этом.
Мы продолжали проверять коллекцию, каждый день совершая путь в шесть-семь верст. Интересно было работать с Яковом Александровичем, но и прогулки он умел делать полезными и занятными. Идем, бывало, вдоль леса утром, по холодку, и учитель обязательно что-нибудь рассказывает… Вспоминая теперь, как это делалось, я думаю, что у него выработался особый профессиональный навык в изложении всего, что он знал.
Читать дальше