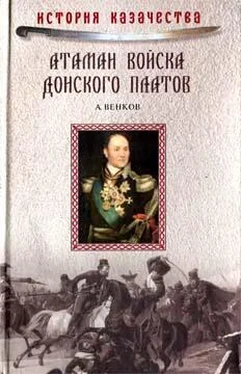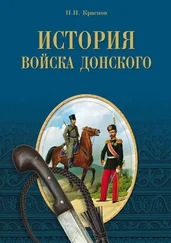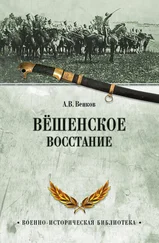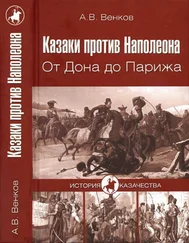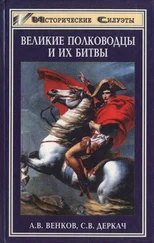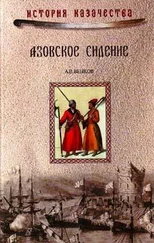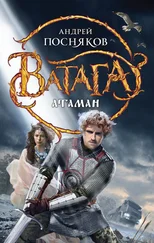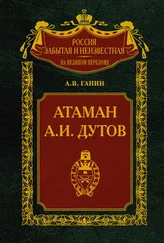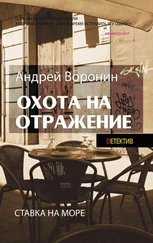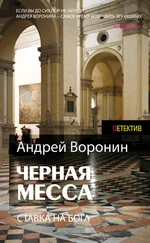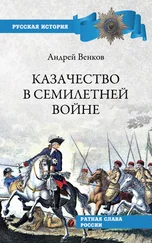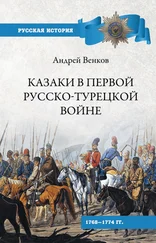Два дня не прошло, на хребтах гор над равниной показались чужие войска, новая армия. Выехал Суворов:
— Юный Жубер пришел учиться. Дадим ему урок.
Весь день дрались, перемогая француза, а ночью налетели на деревню Пастурино, где оттесненный неприятель отдыхал, забрали всех генералов и 39 орудий. Победа!
Альпы… Ледяной кошмар перехода, когда грелись на ночевке конским дыханием. Песня потом была:
Тучи темны, тучи грозны.
По горам Альпам идут,
Да идут храбрые казаки,
Они же песню вот поют.
Да идут они тихим шагом,
Промеж собою речи говорят:
Да если б был с нами Суворов,
Нам бы смерть бы не страшна…
Двухдневный бой при Гларисе… Половину коней тогда за поход потеряли, еле к дому прибились.
Вернулся Пантелей Кисляков есаулом с двумя орденами. Хуторские на него раскрыв рот смотрели, домашние на Суворова, как на Бога, молились. Атаман Иловайский, Алексей Иванович, родню свою — зауряд-полковых есаулов Тимофея и Василия и казака Василия же Иловайских «за службу отцов их» в полковые есаулы производил, а простому казаку — попробуй, выйди… А Кисляков вышел.
Награжденный ты, больной и израненный, а служить надо.
Был потом Оренбургский поход, о котором вспомнить страшно. Прокаленная пустыня, песок желтый, рассыпчатый, из-под снега глядит, а сам холоднее снега. Забогатевшая иностаничная родня старалась пристроить Пантелея при Войске. Стали посылать его при нужных бумагах с отдельными вручениями по окружным начальствам, но вскрылось, что есаул Кисляков русской грамоты не знает, читать и писать не умеет. Запутал он бумаги так, что затребовали их все опять в Канцелярию, а Кислякову — ордер, что наряжен он в комплект четырех полков на линию. Там, дескать, ему и место. Насилу отвязался, устроился в городе Киеве патрульную службу нести.
1 февраля 1807 года вышла ему отставка. Жил отставной есаул бедно, на ордена в Войске деньги просил (ордена тогда из капитула за свои кровные выкупали), от бедности на службу напрашивался, поставили б его смотрителем Манычских соляных озер. Но где ж ему, безграмотному, таким хлебным местом управлять — отказали («без бытности Войскового Атамана сделать не можно»).
Иной жизни, кроме «служивской», не знающий, Пантелей Кисляков заскучал в родимой станице. Умственного напряжения, как и обычно, есаул избегал и бездумно вздыхал о службе, о Польше, о линии…
Менялся Дон, менялась степь, распахивалось некогда Дикое Поле. Новый этап начинался, этап европейской славы казачества. Само казачество перемалывалось и переламывалось. Повременим еще немножко, не денется никуда наш Матвей Иванович, чья европейская слава начиналась как раз в это время. Разберемся до конца с Кисляковыми, раз уж взялись мы за этот род, тем более что род этот примером своим многое из истории низового казачества нам раскрывает.
Не были Кисляковы так богаты и так славны, как Ефремовы или Мартыновы, но зато прозвище свое родовое не по деду Ефрему или Мартыну вели [106] То есть фамилия их была древнее Мартыновых и Ефремовых.
. Пытались как-то Пантелея Кислякова на Кривых Хуторах, по деду, Семеновым называть, он вроде и откликался, но истинное родовое свое прозвище всегда помнил, и по нему писан был в разные нужные бумаги. Что же за люди такие — Кисляковы? Откуда взялись?
Летом от сотворения мира в 7153-м (1645) на рубеже царствования Михаила Федоровича и сына его, Алексея Михайловича, подрались донские казаки с татарами и отсиживались всю зиму в низовом Черкасском городке, осажденные ногайцами, черкесами и крымскими воинскими людьми. Ногайцы нагло кочевали в нижних казачьих юртах по Махину и вокруг Черкасска, в версте, а в иных местах и менее версты. И собрались большим собранием азовцы, крымцы, черкесы темрюцкие и ногайские улусные люди и подступали под Черкасский городок с боем. Выезду и выходу из городка за рыбою и за дровами никуда не было, натерпелись казаки голоду и холоду, и многие голодной смертью поумирали. Весной откочевали враги, но готовили силу великую вновь идти под Черкасск: конные — берегом, а суда — рекою Доном.
Ударили казаки царю челом: «И мы, Государь, тово их большово приходу ожидаем к себе вскоре, а помощи, Государь, и заступления мы, опричь Спаса и Пречистые Богородицы и тебя, праведного великого государя, ни от кого себе не имеем…» Новый царь Алексей Михайлович, желая отомстить крымчакам, а казаков подкрепить, едва вступив на престол, приказал дворянам Ждану Кондыреву, Михаиле Шишкину и подьячему Кириллу Афиногенову набрать в Воронеже и по другим окраинным городам вольных людей для отсылки на Дон в прибавку к казачьему войску («… И вы б тем вольным велели быти у себя на Дону в нижних городках, а на Русь в верхние городки не отпущали»). А помимо того послал царь на Дон людей своих из Астрахани и казаков, терских и гребенских, и жалованье в количестве, доселе невиданном.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу