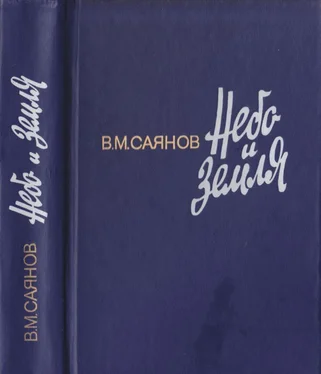Под вечер в комнате появлялся Быков, а попозднее собирались здесь и товарищи по отряду, но обычно вечерние беседы были коротки, и Уленков снова оставался один.
Только радио связывало его теперь с миром. Целые дни лежал он, прижав к ушам наушники и вслушиваясь в мелодии, свободно доносившиеся к нему издалека, к голосам дикторов и артистов, к речам на собраниях и митингах, к передачам из заводских цехов и вузовских аудиторий.
И это утро началось сводкой Советского Информбюро. Она была привычна, как биение собственного сердца, без неё нельзя было жить, как без дыхания. Радостно было слушать строгий, уверенный голос диктора, повествующий о воздушных боях, о массированных ударах авиации по мотомехчастям, пехоте и артиллерии противника, об уничтожении вражеской авиации на её аэродромах. Вот ведь как! Еще вчера Советское Информбюро сообщало, что за третье сентября уничтожено тридцать три немецких самолета, а сегодня даются уточненные сведения, — оказывается, в тот день сбито пятьдесят шесть самолетов. Дневник Уленкова был исписан цифрами, как заправская бухгалтерская книга, — он ежедневно высчитывал, сколько самолетов потеряет немецкая авиация при таких боях в неделю, и сколько она потеряет за год, и сколько немецких самолетов выйдут из строя, если война продлится два года.
А как радостно было слышать в радиопередачах фамилии знакомых летчиков, — целый день можно было провести без движения, ни на минуту не отрывая рук от наушников, лишь бы только узнать о новых делах истребителей…
Но однажды Уленкову особенно посчастливилось. Диктор неожиданно объявил, что через полчаса состоится большая радиопередача. Как раз в это время пришла Дуня с обедом, радостная, улыбающаяся, кружащаяся по комнате, словно она танцевала вальс с невидимым партнером.
— Я вам обед принесла пораньше, очень вкусно повар сварил, такие чудные пельмени, что прямо пальчики оближешь. — Она облизнула свои пухлые, красные губы и захохотала, в упор глядя на Уленкова зеленоватыми маленькими глазами, становившимися узенькими, как щелочки, когда она раскатисто смеялась.
— Я есть не хочу, — сердито сказал Уленков.
— Плохо себя чувствуете?
— Нет, самочувствие хорошее…
— Тогда обязательно поешьте.
— Нет, нет, ни за что! — окончательно раздражаясь, вскрикнул он и, подумав, добавил: — Скажите, пожалуйста, почему вы всегда смеетесь? Вы хоть раз в жизни с кем-нибудь говорили без улыбки?
— Как так — без улыбки? — недоуменно спросила она.
— Ну, нельзя же постоянно быть веселой. Вот ведь и у Маяковского сказано: «Тот, кто неизменно ясен, — просто глуп».
— У Маяковского? — переспросила она и, поняв смысл слов Уленкова, заплакала, закрыв лицо руками. Уленкову стало стыдно, что он ни за что, ни про что обидел девушку, и он умоляюще сказал, приподнимаясь на локтях:
— Зачем же вы плачете? Я вас обидеть не хотел…
— Ну, то-то же, — мгновенно успокаиваясь и снова улыбаясь, сказала она. — Я за вами, как за родным сыном, хожу, а вы на меня почему-то сердитесь…
«Ну, насчет родного сына, ты, голубушка, немного преувеличиваешь, — не в силах сдержать улыбку, подумал Уленков. — Мы с тобой, пожалуй, ровесники, и в мамаши ты мне никак не годишься…»
Но после этих слов он уже не мог отказаться от обеда и, наскоро съев пельмени, тихо сказал ей:
— А теперь можете забирать посуду, я сейчас посплю немного.
Она ушла из комнаты, и Уленков снова взял со стула наушники. До начала передачи оставалось, по его расчетам, еще десять минут. Но не прошло и минуты, как диктор объявил, что у микрофона выступает один из награжденных недавно летчиков-штурмовиков… С волнением слушал Уленков рассказ молодого летчика Кобызева.
Простой рассказ о том, как летчики-штурмовики появились над вражеским аэродромом, заставил сильнее стучать сердце Уленкова. Молодцы, какие они молодцы! На бреющем полете атаковали немецкие самолеты. И Кобызеву посчастливилось! Возле того самолета, который атаковал он, стояла цистерна с горючим. Грохот взрыва, казалось, доносился теперь вместе с неторопливым, чуть хрипловатым голосом летчика до этой тихой комнаты, в которой лежал Уленков.
«Мы, штурмовики, клянемся внезапными, могучими ударами бить фашистов, везде, где будет приказано, — во вражеском тылу, на коммуникациях, на переднем вражеском крае», и Уленков, медленно шевеля губами, повторял слова этой боевой клятвы.
Когда у микрофона выступил другой летчик и начал рассказывать о боевых делах истребителей, Уленков уже принял решение. Он поднялся с постели, торопливо оделся, кое-как натянул сапог на забинтованную ногу — для этого пришлось разрезать голенище — и сразу вышел из комнаты.
Читать дальше