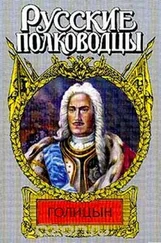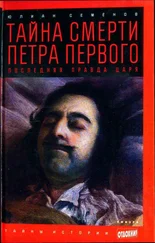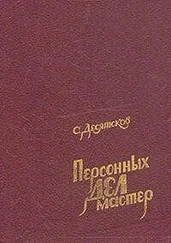«Так-то, други!» — весело заключил он и с поразившей Василия Лукича и брата бодростью взбежал по высоким ступеням Зимнего дворца, никому более не кланяясь и не уступая дороги.
К утру подморозило. Земля была мерзлая, сухая. Ветер нес ледяную крупу по недостроенным першпективам. Фигурки прохожих терялись в их бесконечности. Люди собирались в маленькие кучки, шептались и тревожно смотрели в сторону дворца. Все чего-то ждали. Не верили, что после его смерти ничего не произойдет.
Петр умер. Все привыкли к тому, что он долго, бесконечно долго царствует. Теперь ждали и боялись перемен. Одни оттого, что хотели их и боялись, что их не будет, другие оттого, что перемены все равно должны случиться, но было неясно, к чему оные приведут. И все тревожились.
Екатерина уже поутру знала, что все предрешено в ее пользу. Так сказал Данилыч. Она ему верила, но по-прежнему волновалась. Перед тем как пришел Петр Толстой звать в тронную залу, сидела в боковой спаленке, смотрела на вздувшуюся даль Невы, слушала вой ветра за окном, безучастно перебирала старые письма Петра. Прочла устало: «Катеринушка, друг мой сердечный, здравствуй!» И неожиданно для себя самой заплакала. Вспомнила петрушины волосы. Они ей сразу понравились: темно-каштановые, волнистые. Такие были и у Лизаньки. Сквозь слезы дочитала письмо: «…объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний каролище — дитя зело изрядное, которому седмь лет». Письмецо было из Парижа. Почерк у Петруши быстрый, скорый. «А что пишешь, что у нас есть портомойки, то, друг мой, ты, чаю, описалась, понеже у Шафирова то есть, а не у меня, — сама знаешь, что я не таковский да и стар». Он смешно оправдывался. А она-то с Монсом! И в голове решительно все смешалось. Так она и сидела у окна, по-бабьи подперев рукой голову. Теперь, когда он умер, получалось, что она его снова любила.
В дверь поскреблись, и вошел с почтенным смирением Толстой. Из старых родов, а перебежал вот поди к ней и Данилычу. То-то иезуит.
— Государыня, господа сенат ждут!
— Иду, иду… — замахала руками, засуетилась, бросилась к туалетцу припудрить следы слез.
В коридоре опять услышала назойливое гудение чужих голосов, выпрямилась, как гренадер перед атакой, и вошла в зал. Гул смолк — увидела согнутые в привычном поклоне спины сенаторов и господ генералов.
Недвижно стояла на пороге.
— Посмотрите, государыня! — Толстой побледнел.
Из опочивальни, где лежал мертвый Петр, вышел военный в синем семеновском мундире. Мелькнуло: «Мишка Голицын! Явился! Почему без приказа?» Но тут же стало жутко: а кто теперь мог приказывать?..
Голицын все таки подошел, отвесил почтительный реверанс. Но в том реверансе почудилась насмешка. За насмешкой той — 60 тысяч штыков Южной армии. У Екатерины перехватило дыхание.
Но Михайло Голицын и бровью не повел. Сделал еще один реверанс и отошел не пятясь, смело повернув спину. Спина эта — широкая, армейская — пугала не одну Екатерину, всех гвардейских фендриков.
У двери, что вела в опочевальню, опять зашумели.
— Так уж и нет! Так уж и нет! — тощий язвительный вельможа в богатом пестром кафтане вцепился в усталого, сразу как-то постаревшего секретаря Макарова.
— Повторяю вам, господин посол, никакого завещания государь не соизволил оставить.
Вельможа повернулся, и Екатерина опять удивилась: «Батюшки, да ведь это кяязь Василий Долгорукий, наш парижский посол! Он-то что в Петербурге делает?..»
В 8але тем временем зашумели, заговорили, не слушая и перебивая друг друга. За окном стемнело от снегопада. Сначала снег шел редкий, неохотный, а потом повалил хлопьями. В полутемном зале эти лающие и бранящиеся старички, российские Тюрени и Сюлли, казалось, совсем забыли о ней От того наступал озноб. А тут еще Данилыч и Толстой куда-то пропали. В полусумраке незнакомый непридворный генерал (и откуда взялся?) чуть не толкнул ее, да еще сказал, хам эдакий: «Ну-ка, подвинься…» — принял, должно быть, за фрейленскую девку.
И тут она чисто женским чутьем поняла, что надобно делать. Вышла в коридор и кликнула слуг — зажечь свечи. И все сразу переменилось. Шум утих и, порекры-вая разноголосицу споров, тучный надменный генерал — адмирал Федор Апраксин спросил у бывшего государева секретаря с должной важностью, как и полагается в политичных государствах, нет ли какого завещания или тайного распоряжения покойного государя насчет преемства престола.
Макаров, устало щуря глаза от света, в какой раз, но только уже для всех, ответил, что несколько лет тому назад государь составил завещание, но потом уничтожил. И сейчас ничего нет.
Читать дальше