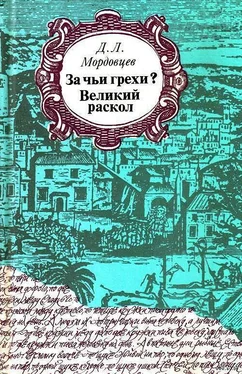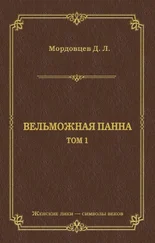— Батюшка! — вдруг произнесла она. — Ты так и не говорил с государем.
Он даже вздрогнул от неожиданности.
— Нету, дитятко, — отвечал он. — Когда же было? действо шло… Вот ужо — на смотру.
Девушка опять закрыла глаза. Факелы опять по временам освещали ее бледное грустное личико.
«Оо-хо-хо! — думалось Прозоровскому. — Девочка опять потеряла куклу».
— А смотр государев рано будет? — снова услыхал он вопрос.
— Рано, ласточка, ты еще почивать будешь. «Нет, тут не куклой пахнет… Оо-хо-хо!»
IX. Беглец Воин в Венеции
Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить — так она богата и всемогуща, — возвратят ему его прежнюю веселенькую Наталеньку. Время еще не успело затуманить и вытравить из ее сердца светлые образы ее первого девического счастья, которое она сама погубила своим безрассудством, а молодость, на забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой себе, в самой этой молодости, найдет новые источники счастья, как богач новые капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье ее жизни, счастье, в первый раз сознанное, как бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его, — эта молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет трепетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства, — эта молодость жаждала только его — его одного, со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было.
Она скоро поняла, что гонцы, посланные в Польшу от царя, что намеки отца на то, что он, которого она погубила, — жив, что это — куклы, которыми ее, как маленькую, хотели обмануть, развлечь. Она все поняла — и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить себя заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтоб ничто не напоминало ей о жизни, о ее радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила.
Прозоровский наконец должен был сознаться дочери, что молодой Ордин-Нащокин действительно пропал без вести: никакие царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете.
Девушка, казалось, несколько успокоилась на этом. Странное, но свойственное любящим успокоение: так не достанется же он никому, как не достался ей. Теперь ее уже не будет мучить мысль о красавицах-еретичках, о польках: ее Воин не достанется им.
Не достанется же и она никому! Монастырь, черническая ряса, клобук, темная келья — вот кому она достанется! Там она будет за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там, за гробом.
Она стала торопить отца — отдать ее в монастырь, и именно в Новодевичий, где похоронена ее мать. Как ни плакал отец, она оставалась непреклонна.
— Батюшка! — утешала она его. — Все же я останусь твоей дочерью — ты будешь ездить ко мне, видеть меня. Ежели что и переменится — так только имя мое: я уж тогда не буду княжной Натальей, а инокинею или старицею Надеждою.
И она была пострижена и действительно получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд плакали в церкви, когда ее прелестное, бледненькое личико выглядывало из-под черного монашеского покрывала и на возгласы постригавшего ее святителя Ионы: «откуду еси притекла в обитель сию» — или «подаждь ми ножницы сия!» — она кротко отвечала или покорно нагибалась, чтоб поднять бросаемые святителем на пол, по чину пострижения, ножницы.
Но как плакал ее отец — этого словами люди никогда не сумеют передать.
Между тем вскоре после ее пострижения вот что случилось.
В то время, когда у московских послов кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал обмен пленных и беглых.
Обыкновенно партии этих полоняников пригонялись в Москву, в подлежащий «разряд», а из «разряда», после переписки, их препровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов: не осквернился ли кто в полону скоромною пищею, не переменил ли веры, не держал ли там папежскую или иную веру, не бывал ли у «латынского ксенжа» на исповеди или в костеле, не бирал ли «секрамент» вместо причастья, или даже «не бусурманен» ли и т. д.
В числе присланных таким образом в патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось, находился в полону около сорока лет!
Подьячий патриаршего приказа, записывавший его «распросные речи», глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что вынес на своем веку этот старик и остался жив и бодр.
Читать дальше