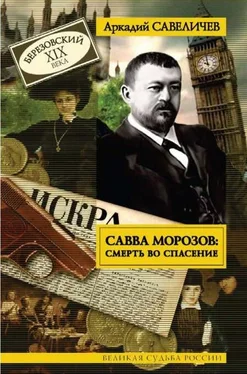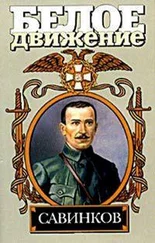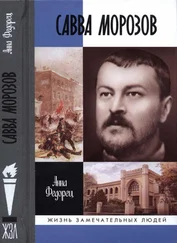— Поездка в Крым меня утвердила в своем решении, — присел он на штабель первых, привезенных на пробу кирпичей. — Но — и внесла некоторые коррективы. Да, и ваши окна первого этажа впустят в дом весь окрестный мир. Пустырь сейчас? Но дело рук человеческих — облагородить его. Пускай поменьше, чем в Ливадии, будет роз, зато — сирень, жасмин, разные тюльпанчики и незабудки — забудешься от дум фабричных, глядя на все это. Вы ж бывали в Англии? Не южный край, а какие там лужайки! Какие цветники! Пригласите толкового садовника. А с северной стороны, до террас второго этажа, мы поднимем наши березки и под защитой на отдалении устроенных, невидимых дворовых служб южные туи даже воспитуем. Они не кипарисы, при должном уходе устоят и перед русской зимой. Да ведь и сад, с яблонями и вишнями — через мои. через наши окна, — с улыбкой поправился Шехтель, — сад прямо войдет в дом. Видана ли на Москве хоть у кого‑то такая благодать? — постучал он своим изящным кулачком по самолюбивому лбу устроителя.
Савва поднял руки:
— Сдаюсь, сдаюсь, Федор Осипович! Я ведь и художников еще сюда притащу. Левитан обещал залучить самого Врубеля — то‑то он мне демонов да оголенных див наворочает!
— Оголенности тут, кажется, и сейчас хватает. — с усмешкой проводил глазами
Шехтель какую‑то забытую приятелями девицу, которая во всем своем растрепанном виде выбегала из сторожки.
— Не она ли. Мать ее?.. — вслух подумал Савва, потому что девица, застегиваясь на ходу, этак игриво ручкой ему помахала.
Чопорный Шехтель расхохотался:
— Ну, хозяин, не состариться вам и в сто лет!
— Не в старости, так в младости — все равно ведь помрем. — взгрустнулось чего‑то, но тут же и зычный зов: — Дани-илка!..
А он, бес любимый, из‑за штабелей кирпича с подносом вышел, а на подносе — все, что душа пожелает по утреннему смутному времени!
— Да ты у меня кучер или метрдотель?..
— Я Данилка, — скромно ответствовал бес, смахивая с плеча прихваченную скатерку, расстилая ее на кирпичах и ставя поднос. — Стулья принести?
— Какие стулья? — восхитился Савва своим любимым бесом. — Нам нужно куда сегодня ехать?
— В банк, в московскую контору, дай к матушке обещали. Иль забылось?
— Забылось, Данилка. Все эти худо. художества! Матушка — дело серьезное, потому тебя и не приглашаю. К сыновнему духу она привыкла, но чтоб от кучера сынком попахивало.
Слушая разговор хозяина с кучером, Шехтель только головой качал. Сие было ему непонятно.
Савва Тимофеевич чтил родовые устои, заложенные еще делом Саввой Васильевичем и нерушимо укрепленные родителем Тимофеем Саввичем, — иначе с чего бы первенца Тимошей назвал. Но все‑таки визиты к матери сносил через силу, а Зинаида вообще находила любой предлог, чтоб не показываться к свекрови. Особой радости не было, как не было в Москве пока и своего дома — не торчать же вечно в Орехове да в поместных Усадах. Оттого и покладист был с Шехтелем, чтоб побыстрее свое жило обрести.
Мать как мать, у нее свои устои, свои причуды. После смерти Тимофея Саввича переселившись в Трехсвятительский переулок, в огромную городскую усадьбу, она была довольна. Главная контора Никольской мануфактуры была поблизости, и она, основная пайщица и держательница мужниных капиталов, — сыну‑то отпала меньшая часть, — жила в своем старообрядно устроенном мире. К тому же не без причуд. Окружила себя целым сонмом приживалок, благо что места хватало, а много ли она одна могла проесть да пропить на квасах — не на коньяке же, как сынок-управитель. В двухэтажном купеческом особняке, с массивными арочными воротами и несокрушимой же оградой, было только жилых комнат два десятка, да флигеля, да разные службы, да зимний обширный сад, — своя Москва на спуске к Таганке и Хитрову рынку. Но шумная воровская и торговая жизнь, на задах огражденная непроходимой, чуть ли не таежной чащобой, при сторожах и собаках, до особняка не долетала, а Трехсвятительский переулок был чист и ханжески тих. Причуды, они на все свой отпечаток накладывали. Мария Федоровна не пользовалась уже запылавшим по всей Москве электричеством — у нее по всем комнатам горели несокрушимые керосиновые лампы. Боясь простуды и горячей воды, приказывала омывать — отирать себя одеколоном, почему в комнатах и стоял страшенный дух: помесь всевозможных одеколонов, растираний да ладана. Иконы — они все другие картины заменяли. Переходя из комнаты в комнату, молись в каждой за упокой души Тимофея Саввича. А ведь была еще и домашняя молельня, где ежедневно правил службы рогожский священник.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу