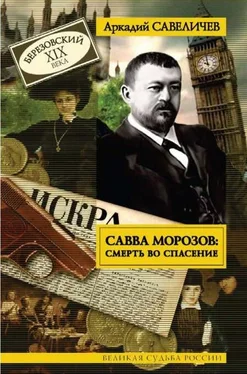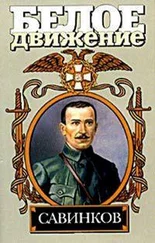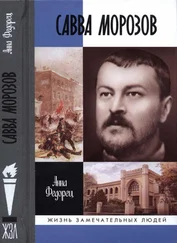Обедали тут же, в беседке. Это было нарушение морозовских устоев, но родитель пребывал в Москве, а с ним и матушка, так что можно было немножко и посвоевольничать.
Слуги, приносившие из кухни обед, качали староверскими кудлатыми головами, но помалкивали. Как‑никак наследник обедает. Кто может поручиться, что завтра он не займет хозяйское место? Крепок Тимофей Саввич, но не вечен же. Слуга есть слуга: лишнего не говорил. Люди были вышколены и приучены делать только то, что им велят. Если молодой хозяин привечает этих шалопаев в черных распахнутых тужурках, стало быть, дело его, хозяйское. Они, конечно, в подробностях доложат истинному хозяину, как жил-поживал наследничек, но что тут особенного? Если и курил кто, так только тот, вертлявенький. Ни Савва Тимофеевич, ни рослый детинушка, у которого тужурка трещала на плечах, этим не грешили. Посуду они после нехристей со щелоком вымоют, да и вся недолга.
А послеобеденные кофеи?
Тимофей Саввич сам не употреблял, но не возбранял, для гостей держал наилучшие. Слуги, уносившие посуду, слышали похвалу:
— Да-а, хорош кофеек у твоего родителя!
— Давно не пивал такого.
Это тоже можно передать Тимофею Саввичу, наверняка ему понравится.
Слуги с сознанием выполненного долга ушли, и сбивчивая беседа продолжилась. В основном хвастовство Амфи. Хорошо, что хоть он не стал опять влезать в петлю, но похвастался:
— Я чего в Петербург мотался? Я, мой дорогой Хан, с самим Сувориным обедал! Вот бы наш Чехонте посмотрел — удивился бы.
Видно было, что он и сам еще от этого удивления не отошел. Савва мало вникал в студенческое баловство приятелей, но ведь читал же что‑то, кроме своей химии. У них родитель хоть и с ремнем, но с тугим кошельком, за спиной не стоит — самим зарабатывать надо. Иногда лучше не обращать на это внимания, чтобы не конфузить. Хотя Сережку‑то Амфитеатрова оконфузишь, как же!
— Звал я сюда и Антошу, — скакал он на хвастливом коньке, — да некогда, говорит. Может, где в больнице подрабатывает. Но, бьюсь об заклад, строчит что‑нибудь! Чего ж, я знакомством с Сувориным похвастался, вот хочет доказать, что и он не лыком шит.
Слушая эту болтовню, Олежка Вязьмин откровенно посмеивался. Съязвил и Савва:
— А ты чего, агрономишка? Доктор наш пишет, вот этот правовед, вместо того, чтобы права перед царями качать, к Суворину на обеды ездит — не отставай и ты. Шпарь что- нибудь этакое. про кровососов Морозовых, например. Право, Олежка, подкузьми этого болтуна, — бесцеремонно пихнул он кулаком в бок расходившегося Амфи.
На того только кулаки и действовали, попритих. Дал сказать словцо и Вязьмину. На удивление откровенное:
— Нет, я так высоко не летаю. Потому и в агрономы пошел. Мне бы что? К матушкину малому наделу землицы прикупить, жену по моему махонькому росточку, — хорошо так посмеялся над собой, — побогаче завести, а хозяйство вести я научусь. Не все же с полицией стенка на стенку ходить. Ведь и ты, Савва, в химики‑то по дурости пошел?
Все так рассудил, что и ответить нечего.
Но Савва, заразившись его откровенностью, все‑таки ответил:
— Нет, не по дурости! В текстильном деле что, думаете, главное? Шерсть, хлопок, шелк? Нет, други мои, краска. Как покрасишь, так и продашь.
Самого удивило это практическое прозрение. Хотя не сегодня же оно пришло?
Такой, видно, деловой вид на физиономии отобразился, что Амфи даже подпрыгнул от оскорбления:
— Нет, с вами только дохлых мух давить! Кто гарем обещал?
Надо было как‑то выкручиваться.
Всякая вода, как известно, течет по течению. Усадебные пруды были устроены на ручье, который покойный дед назвал Плаксой. У него были свои причуды, никто не возражал. Плакса так Плакса. Может, и характер ручья такой: со слезами родниковыми пробивается сквозь густейшую навесь вековых ив. В иных местах и воды‑то не видно, так все заросло. А звон стоит почище соловьиного; витые корни и уткнувшиеся в землю ветви заставляют струю перепрыгивать через многочисленные запруды. Сами собой и прудики образуются. Дед Савва Васильевич бесполезными красотами, которые нельзя было положить на хлопчатую или там шелковую ткань, не грешил. Первоначальную избу ставил, где помещик Рюмин указал — в сырой и болотистой пойме безымянного, а главное, бесполезного ручья. Ни рыбы тут, ни купанья. Живи, Мороз, коль не померзнешь!
Ехидно так подумал, а Мороз‑то обжился и стал всесильным Саввой Васильевичем, купцом первой гильдии, перед которым под старость бывшему гусару плакаться приходилось, выпрашивая то того, то сего, а чаще всего деньжат. Не отсюда ли и названьице такое возникло — Плакса? Догадками внук себе голову не забивал, просто любил эти места. Ведь для чего устраивал дед на ручье пруды? Да чтоб болотистую пойму осушить — пруды забирали лишнюю воду. Это был, наверно, первый позыв. А другой — портомойни больно хороши на прудах получились. Разраставшееся хозяйство, с многочисленной челядью, требовало стирки да стирки. Дощатые навесы, посаженные на сваи, сохранились до сих пор, хотя была на задах усадьбы добротно срубленная прачечная. Но прачки там только мылили белье, а полоскать предпочитали на сваях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу