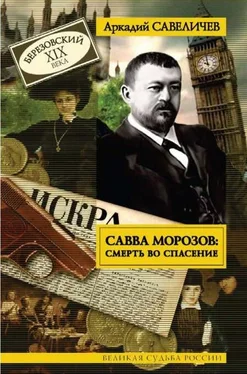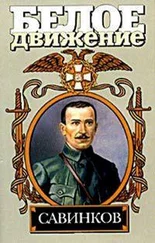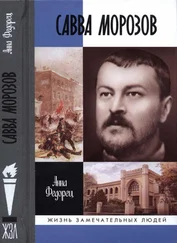Посидели в тенистом, уже разросшемся саду, что там, под кофеек и по рюмочке выпили за упокой. Хотя покойный друг все еще мотался где‑то по пыльным, жарким улицам. Говорить было не о чем. Право, молчальники.
Через полчаса снова сели в ландо. Через Кудринку, Плющиху, мимо Девичьего поля.
— И все‑таки рановато. — вздохнул Морозов, не видя процессии. — Побродим, Максимыч, среди усопшей братии.
— Побродим, Тимофеич. Много тут знакомых.
— Когда наш черед?
Горького смутило, что последний год Савва часто говорит о смерти. Морозов отшутился:
— А как же, местечко присмотреть! Ты, Максимыч, на семь лет моложе меня — куда тебе понять! Вот с Антоном мы уж истинно однокашники.
Он не замечал, что думает о нем как о живом. А Горький поправил:
— Были однокашниками.
Только подогрел хмурое настроение друга.
— Да! Были. Вот живет, живет человек. и сгнивает. Плохо это, даже нечистоплотно. Конечно, и гниение — суть горение, говорю как химик. Но и взрыв — тоже горение, только мгновенное. Что лучше? Молодец все‑таки Нобель — динамит изобрел!
Он рассказал о двух динамитных бомбах, подложенных ему в камины. Горький ужаснулся:
— Ну, меня донимают проклятые держиморды — тебя‑то за что?
На этот вопрос Морозов, сколько ни пытался, — не мог ответить. Судьба? Коль так, то чего же плохого!
— Уж коль господом уготовано, я предпочел бы обратиться в динамитную бомбу. Чтобы пошумнее да повеселее! Р-раз — и нет Саввы Морозова! Мысли о смерти не вызывают у меня страха, просто брезгливость. Как это я, Морозов, могу пойти на удобрение? Бывал в Германии, знаю рачительных немцев: у себя в усадьбах заводят компостные ямы, туда валят все — листья, солому, всякие отходы, даже дохлых кошек и собак. Перегорит, мол. А по-русски удобрение называется — перегной. Вот судьба! Не хочу в такую гнилую яму. — Савва Морозов замотал лобастой головой, будто его уже сейчас пихали в эту ямищу. — Последний момент жизни должен быть ярким и здраво- праздничным. Завидую настоящим военным, особенно когда под пушечный снаряд попадают.
Жутко его было слушать. Да еще и на кладбище.
— Но ведь ты из старообрядцев. Как ни ёрничаешь, друг мой, а в бога‑то веруешь?
— Тело не верует ни во что, кроме себя. Бессмертие? Какого шута кто‑то вспомнит о Морозове!
Нет, надо было уходить от этих старых могил. То поспешили впереди покойного, то припоздали — к разверстой могиле было уже не протолкаться. Священник махал кадилом, дьякон помогал ему своим рыком, и толпа единым голосом:
— Ве-ечна-ая па-амя-ять!
Как бы в укор Морозову, крестившемуся двуперстно. Вот у Горького и единого перста не нашлось. Право, счастливый человек. Живет себе и живет, без всякого бога.
И после похорон, после долгого и нудного поминального застолья, Савва Морозов долго ходил под «вечной памятью». Что‑то сбила в его душе смерть Чехова, с которым, собственно, особой дружбы так и не получилось. Может, отсюда и угрызения совести? И понимание никчемности всей своей жизни?
«Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный. Все мы в молодости восторженно чирикали, как воробьи на дерьме, а к сорока годам — старики и начинаем думать о смерти. Какие мы герои?..»
Чего-чего, а геройства Морозов и в себе не чувствовал. Вопреки Чехову, тело было сильно, а дух?
Дух, душа — да разве потребно это купцу?!
Самоуничижение — паче гордыни?
Ничего не поделаешь, в последний год оно все тягостнее, все безотраднее наваливалось на плечи. Мысль о третьем, погибающем поколении не давала покоя. Вино, бабы? Да что они значат, по большому‑то счету!
Правильно напевает ему, рогатому, в уши барон Рейнбот:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.
Глава 1. В ожидании ареста
Здоровье стало хандрить. Право, поначалу он и не поверил, что может быть одышка или что‑нибудь такое. Ну, можно ногу подвернуть в каком‑нибудь Париже, с седла расшалившегося кабардинца слететь, непотребную бабскую грязь принести, с перепою, наконец, расшатать голову, но чтобы нутро шалило!
«Надо доктора-костолома опять позвать!» — похмыкивал он, но жизнь продолжал, как и прежде, без докторов. Сам не замечая своего лечебного пристрастия — ранней утренней ходьбы. Что в Орехове, что на Спиридоньевке. Неужто стал подражать племяннику Николаше, который продал отцовских рысаков и пешим шастает по Москве? Нет, он рысаков не продавал — как можно! А утренние пешие прогулки в самом деле полюбил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу