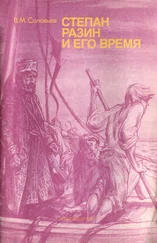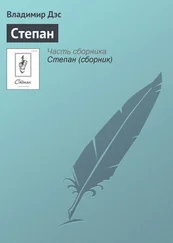Завтра придумаю, что дальше… Переправиться? А то, глядишь, и судно какое нагонит? Главное: нарочного обставить. Атаман Ослоп! Кузя… — всплыли невольно в памяти слова воеводы. Уж не Толстопятый ли верховодит здесь ватагой? Да… Всё едино!
Проехал немало, прежде чем услышал со спины перекликавшийся с дробью лошади скок. Натянув поводья, обернулся. И закрыл глаза от немыслимого. К нему летела, жмясь пухом волос к пуху гривы, любимая. Он открыл глаза и, совсем не желая того, крикнул:
— Что ты? Повертай назад, Надюша. Нельзя ведь…
— Не могу больше! — отвечала исступлённо. — Ты мне один любый. Уноси меня!
Ответить не привелось. Застарелая струнка чуткости снудила развернуться к роще. Так и есть. Оттуда копытили четверо: как раз вперерез между влюблёнными.
Вот оно! Расплата по долгам… Как ко времени! Досадливо и вместе с тем беззаботно прыгало в голове.
Вот Кузьма, вот Зея, а вот Дуда. Степан не притронулся к клинку.
— Хо, никак сам освободитель к нам пожаловал, закуп годуновский! — зычно выдохнул мелкий Зея. — Он у нас парень ответственный. Всегда всё делает в кон. Вот и теперя. Пора, пора ответ держать за все пригожести свои! — потянул из ножен саблю.
Кузьма скучно разглядывал мёртвую траву, что залепила шмат земли у копыт, и не шелохнулся.
«Приплыл, приплыл…» — хладнокровно сочилось под черепом.
Леденея, вспомнил про Надюшу. Приложив кулачки к щекам, она смотрела на приближающегося Ивана Дуду. В глазах — полыньи, во льду и без дна. Только не того, видать, испугалась. А Бердыш — как раз этого, до ужаса, до слепоты…
Страх за милую вплеснул котёл решимости и злости.
За себя, помня личную вину перед этими людьми, не поднял бы мизинца. Но теперь им двигала любовь. И даже не любовь, а святой остерёг — страх за любовь и защита любви, которой угрожали смерть или поругание.
Котёл напитал сердце. Долг защитника пересилил стыд перед «судьями».
Он пустил коня. Оскалясь, занёс саблю.
Благоразумие не оставило казаков. Зея вздёрнул самопал. Пророкотал усиленный эхом выстрел.
В глаза ливануло серой, глотку обожгло.
Неторопко он валился набок, зависая к земле.
Мир двоился, троился, слоился, расплывался. Зрения почти не осталось. Лишь от тёмного яблока убегали, бешено вертясь и перетекая, злащёные разводы. Такое узришь, плывя по воде на животе с открытыми глазами. Всё это крутилось, ускоряясь, порывисто свистя и затопляясь сажей, миг, от силы два…
Последнее, что удержал тускнеющий взгляд, хохочущий Зея, что слапал зашедшуюся в крике Надю… Её опещерившийся на белом рот — крика он уже не слышал… Но многократно отзвенел в его голове, слабея, не словленный вскрик, вскрик смертельно раненой птицы…
Мчась мимо кренящегося Бердыша, Зея мазнул клинком. Прожигающей тяжестью набрякло в месте разрыва. И мрак…
Он не видел, как прыснула на поляну конница во главе с Алфером Рябовым.
Как Зея, в порыве неутолимой ненависти, повторно занёс булат, почти венчая кровную месть.
Как метким выстрелом Алфера подкосило Зеину лошадь.
Как, падая, Зея перебросил безжизненное тело пленницы Ивану Дуде.
Как при падении вывихнул Зея плечо и в порыве бессилия прокусил губу.
Как пролетавший Кузьма одною левой сграбастал его загривок, унося от порубанного недруга и от верной старухи…
Пуля вскользь прострелила кость, чудом пощадив мозг. И в себя прийти суждено было не скоро…
Первое, что впиталось прозревшими глазами, — мельчайший пушистый лес, налипший к небольшой холстине, от изголовья справа. Да это ж оконный крест с белоузорьем. Косить глаза очень больно. Мелькнуло: «Зима!». Первая мысль. Зрачки осторожно сместились вверх: небелёный потолок в знакомой хороминке. Хороминке, ну, да, само собой, Елчаниновых. Давя кузнечными мехами, накатила пелена… И опять ничего. Ничего не видно. Только слышно. Гудко. С улицы. Оттуда нёсся, то наплывая, то усекаясь, забытый в прошлодавнюю зиму закрут вьюги. А ещё тише, как перекат гальки, разноголосье.
— Никак ожил! Чудеса! Впрочем, младенец березень всё наново живит, — с перезвоном врезалось в левое ухо. Березень! Настроил зрачки. Над — обросшая мордаха. Звонарёв!
— У тебя правильное имя. Звон один от тебя, — прошелестел Степан жухлыми лоскутами, что под носом.
— Ты покуда знай — молчи. Кой-как выходили. Каб не жинка моя, погребай-молла настал бы.
— Всё ль в порядке? — упрямился раненый.
— Смотря что к порядку прописать, — неживым каким-то треском отозвался Поликарп.
Читать дальше

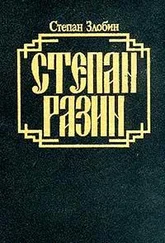
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](/books/60938/vladimir-plotnikov-po-ostyvshim-sledam-zapiski-sle-thumb.webp)




![Сергей Плотников - Паутина Света. Том 1 [СИ]](/books/423448/sergej-plotnikov-pautina-sveta-tom-1-si-thumb.webp)