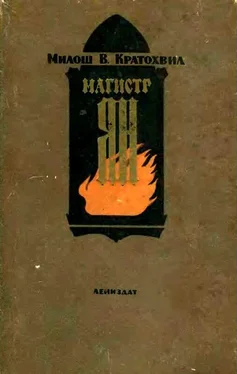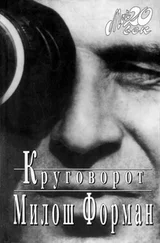Я прошу у вас прощения за свою откровенность. Тогда я отлично понял, чтó испортило вам расположение духа. Мне стало ясно, что вы сводите счеты со своей собственной совестью. Вы недовольны жизнью. Она опрокидывает ваши мечты; ваши мечты никуда не ведут, ибо вы сами идете по ложному пути. Ваш путь был уставлен манящими вехами, богат ловкими поворотами, пестрел тысячами кристаллов холодного познания, но никуда не вел. А определенная цель должна быть у каждого чувствующего и любящего человеческого сердца! Более того, я понял, что бы сознаёте свое бессилие, но не способны свернуть со старого пути и пойти по новому.
С тех пор я стал бояться вас, — этот страх оказался сильнее моей сердечной благодарности, сильнее восхищения вами и почтения к вам. Да, я боюсь вас, как всякое живое существо страшится… Нет, мне не договорить это. Я не хочу рано или поздно стать слепком с вас. Я хочу жить своей собственной жизнью! Поскольку я ухожу от вас вовремя, то уношу с собой только приятные воспоминания, как сын и ученик, с благодарностью принимавший ваши милости. Оставаясь под одной крышей с вами, я скоро возненавидел бы вас.
Я ухожу вовремя — как для себя, так и для вас.
Да хранит вас бог!»
Пальцы кардинала неожиданно задрожали, письмо выпало из них. В углах рта легли глубокие, скорбные складки. Голова Забареллы непроизвольно покачивалась, словно он подтверждал всё то, что было сказано в письме Лодовико.
За спиной кардинала постепенно угасало солнце. Его блеклые лучи нежно ласкали мраморную статую Венеры, прекрасную своей ослепительной белизной и вечно холодным совершенством.
Вначале июля Констанц задыхался от необыкновенной жары. Утренние зори изо дня в день обнажали ясное, без единого облачка лазурное небо. Уже в утренние часы солнце накаляло стены и крыши домов, и на улицах стояла нестерпимая духота.
Но во францисканском монастыре было прохладно. Его каменный панцирь не пропускал солнечное тепло и хранил сырость, впитавшуюся в стены еще зимой.
Холод и сырость подтачивали и без того слабые силы магистра. Но подобно тому, как злокачественная опухоль не успевает развиться в дряхлом теле умирающего старца, так и страдания Гуса не могли подорвать его дух, ибо рок отмерил для них только один, последний день.
Этому дню суждено стать самым длинным: сознание узника не сможет засечь тот миг, когда свет отделится от тьмы — день и ночь сольются для осужденного в одно сплошное бдение.
Время удлинилось благодаря размышлениям, пространство стало безграничным. Последний день вплотную приблизил к узнику далекие лица и давние события. Он должен многое объяснить этим людям и столько же у них узнать.
Собор еще раз вошел в его камеру, — на этот раз в виде документа, врученного узнику Забареллой.
Гусу пришлось преодолеть последнее искушение. А оно не шуточное, — одним росчерком пера он мог бы отвести от себя смерть! Собор пошел на уступки и предложил Гусу отречься только от тех статей его учения, которые он сам находит еретическими. От остальной, большей части, той, которую магистр считал ошибочно приписанной ему или превратно толкующей его мысли, можно было не отрекаться. Святых отцов удовлетворит присяга, в которой Гус откажется проповедовать свое учение.
Последнее предложение святых отцов напоминало совет римского короля, отвергнутый магистром на суде. С той поры ничего не изменилось, не изменился и он.
Святые отцы идут на всё, лишь бы заставить магистра отречься от своего учения. После тюремных мук и запугивания на процессе — такое снисходительное решение. Видно, дорого ценят они отречение, если готовы даровать за него жизнь.
Жизнь…
Нет, ему лучше не думать о ней. Жизнь — великий дар, — он не может поддаваться ее чарам. Ныне, когда святые отцы надели на него кандалы, посадили в темницу и заперли на замок, она кажется особенно прекрасной.
Да, думать о жизни нельзя, — нельзя именно теперь, когда его дух страждет в горести и одиночестве, когда телесные силы гаснут в борьбе с мыслью о надвигающейся смерти. Жизнь не может примириться с нею. Он хочет жить, жить!
Холодный пот выступил на лбу магистра. Леденящий озноб сменился жаром. Сердце то замирало, то учащенно билось.
Порой Гус складывал руки для молитвы, шепча слова Евангелия:
— «И повел его дьявол на высокую гору и показал ему все царства, которые были на земле, говоря: поклонись мне, и они будут твои!»
Постепенно к магистру вернулась способность мыслить, — отдельные, еще недавно смутные, представления начали проясняться.
Читать дальше