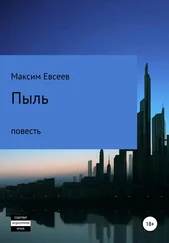Она села на дешевые места и., когда я выключил свет, сняла с головы шляпку, маленькую шляпку с пером, которую я подарил ей в день ее тридцатилетия. Это было четыре года назад. Я стоял у окошечка, отделенный от пе «кирпичной стеной, стеклом и двадцатью метрами зала, h глядел на нее. По ее волосам, но ее каштановым волосам скользил мерцающий свет «Золотого города». По и нацистский кинообъектив не в силах был оккупировать свет и небо над нашим городом, свет и небо остались при нас. И я видел ее — ее волосы, плечи, родинку, озорную усмешку, морщинки на переносице, когда она, смеясь, морщила нос, ее глаза до краев полные невинно-лукавого простодушия, глаза, которые умели находить великую радость в каждом пестром камешке, ее ноги, которые так любили босиком шлепать по луговым тропинкам. Никогда еще мои глаза не воспринимали ее так отчетливо, как в этот час. Никогда еще она так крепко не прижималась ко мне, никогда еще мои руки не ласкали ее так нежно, кап и тот час. Милый старый Ярош — называла она меня. Если бы холодная стена, подавшись под моим лбом и моими руками, обратилась вдруг в ее живое тело, это меня ничуть не удивило бы в тот час. Но потом я счел бы все это игрой расходившихся нервов, не будь кончики моих пальцев до крови ссажены о стену, не будь обломаны мои ногти. Я думал только об одном: не показывайся ей, ты не смеешь засыпаться, может, ее заставили пуститься по твоему следу… Почему я не зашел к ней в ту ночь? Стоило мне только вздохнуть перед нашей дверью, и она услыхала бы меня… У сорвиголовы нет завтрашнего дня, сказал мне Карел в гот вечер.
Через несколько недель прикончили Гейдриха. В витрине на площади Венцеля было выставлено его разодранное пальто, пальто гаулейтера. Рассказывают, что, проходя мимо, Кора плюнула на витрину. Впрочем, этому я как раз не верю. Зато мне точно известно, что тогда начался массовый угон еврейского населения и жертвами его оказались фрау Гольдбаум и Мирьям. В тот день, когда забрали обеих женщин, моя плутовка должна была петь перед гуннами немецкие народные песни. Я узнал об этом от пианиста, который по вечерам аккомпанировал ей. Я выпытал у него все до мельчайших подробностей. Ибо с этого вечера наша разлука стала неотвратимой, как смерть. Кора вышла на эстраду в черном платье с желтой розой в руках. Свое выступление она должна была начать с песенки «Лили Марлен». И она запела, прижав розу к груди и не дожидаясь аккомпанемента. Она запела, моя дорогая плутовка:
Не знаю, что это такое, печалью душа смущена…
Жирный майор выхватил пистолет. Ах, если бы этот болван не был жалким комедиантом, если бы он не выстрелил мимо, вереща, как старая баба, страдания ее кончились бы на полгода раньше и не у красной кирпичной стены в Терезиенштадте.
Я выпытал у пианиста все, что мог. Он не хотел отвечать, он сгорал со стыда, ибо не успел сыграть те несколько тактов, которые могли ему стоить жизни. Его униженные мольбы о пощаде вызывали у меня омерзение.
В мае я побывал в Терезиенштадте, я повторил путь, по которому в последний раз прошла моя Кора и ее товарищи. Этот путь ведет через глубокий туннель каземата. Там из камер тянет гнилью, словно от проросшего картофеля. Как жадно она, должно быть, вдыхала этот запах. Когда у нас в Карлсбаде, в подполе, весной начинал прорастать картофель, она спускалась вниз и перебирала его. Маленьким ребенком она ходила с матерью работать к крестьянам… Как выйдешь из туннеля, по правую руку будет дверь, стальная дверь в стене, окружающей место расстрела. Там она и увидела страшное, фашистское это в неприкрытой наготе — пулеметы под деревянным навесом, чтобы палачи не промокли, если пойдет дождь… Да, это пришла смерть в обличье живодера из фашистской Германии.
Я не вернулся назад дорогой смерти. Вместе с моей плутовкой я пошел вперед по луговой тропинке, которая начинается сразу за выходом из туннеля и поднимается на холм; она любила ходить босиком по луговым тропинкам, и щебетала, и заливалась, как жаворонок. Разве все мы не любили бродить в мае по луговым тропинкам — Кора, ты, Тео и я? И разве ты не щебетала и не заливалась вместе с Корой? А помнишь, как Тео, мой дорогой наставник, не мог сдержать себя, останавливался посреди дороги и, от восторга подбрасывая шляпу, восклицал:
Трепещет каждый
На ветке лист,
Не молкнет в рощах
Веселый свист.
Как эту радость
В груди вместить!
Смотреть! И слушать!
Дышать! И жить![ И. В. Гёте . Майская песня. Перевод В. Глобы.]
Читать дальше
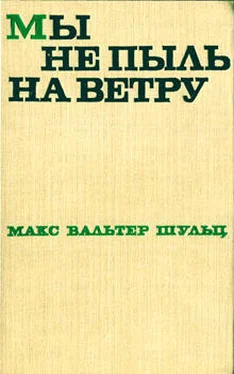





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)