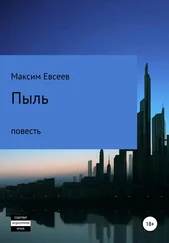— Я всегда это знала, но осознала только сейчас, только сейчас…
Однако когда, опустившись на край кровати, Лея вдруг заговорила, не цепляясь языком за слова, легко и свободно, словно глубокая скованность вдруг отпустила ее, ван Буден услышал совсем не то, что ожидал:
— В те времена, когда мы были тайно помолвлены, он как-то прочитал мне одно место из Флобера: «Жить как буржуа, мыслить как полубог». При этом он даже хлопнул себя от удовольствия по ляжкам. Бросая меня, он сказал: «Я не рожден героем, очень жаль, но тут уж ничего не поделаешь». А теперь он хочет вернуться домой; ему повезло, он остался жив, ему всегда везло. И теперь он пишет: «Я хочу искупить свою вину. Я подарю тебе увеселительный домик в знак примирения. Видишь, какой я молодец?.. Тут ты бессильна, не так ли?..»
Лея откинулась, выбросила руки вперед, словно отталкивая Залигера, и повторила:
— Тут ты бессильна, не так ли? — И снова, цепляясь языком за слова: — Я боюсь его. Только из страха перед нацистами я связалась с ним, бросилась ему на шею. Он это понял, он умен… ох, как умен… А потом он использовал мой страх… мазохист проклятый… пока сам не начал бояться нацистов… Я это знала… Я до сих пор его боюсь, до сих пор…
— Лея, дитя мое, но ведь сейчас все хорошо! У него нет больше над тобой никакой власти. И письмо ты порвала. И бояться тебе больше нечего… больше нечего бояться… больше не…
Она выпрямилась и на его попытку изгнать беса ответила старой, болезненно-мудрой усмешкой, такой старой и такой мудрой, что он запнулся.
— Ты глуп, ван Буден. Все вы глупы, а дядя Тео — больше всех. И Хладек, который не желает с этим согласиться. Но все-таки самый глупый из вас — Руди.
Ван Буден подтащил к себе стул.
— Дитя мое, молчанием ты себе не поможешь. Ты должна говорить. Ты должна кому-то довериться. Мне, если хочешь. Не потому, что я по воле случая стал твоим отцом, а потому, что я смыслю в таких делах… поверь мне…
Оп хотел схватить ее за руки.
— Я знаю… — ответила она таким тоном, что он запнулся.
Он только сказал:
— Сейчас, конечно, не самое благоприятное время для разговоров. Но я пока остаюсь, а потом ты можешь уехать со мной и жить у меня, сколько захочешь. Дюссельдорф — все еще красивый город, если кое-чего не замечать. В конце концов ты родилась там…
Но Лея не дает отвлечь себя от темы:
— А ты обратил внимание, как ловко там все подогнано, почти правдоподобно?.. Я заранее уверена, что в один прекрасный день он вдруг предстанет передо мной, а я буду держаться с потрясающим безразличием. Но не смогу уйти, пока он не повторит мне то же самое, слово в слово… не смогу уйти, не захочу, не смогу захотеть. «Ах, как я понимаю твой отказ», скажет он. «Я стыжусь самого себя», скажет он. «Я свинья…» И тогда… Угадай, ван Буден, что произойдет тогда?..
— Лея, дитя мое! Ведь ты живешь среди людей. Они тебе помогут…
— Тогда, если я отвечу: «Да, ты свинья!», он воскликнет: «Помоги мне, спаси меня!» А если я отвечу: «Нет, ты не свинья», он воскликнет: «Вот видишь!» И то, и другое будет почти правдой. Я могу говорить все, что вздумаю. Все равно он…
— Может быть, мне стоит поговорить с Хладеком?
— Поговори, если хочешь. Но я заранее могу тебе сказать, что он ответит: «Ей надо дать какое-то занятие, — ответит он, — хорошее занятие и здорового парня». Будто это так просто.
Тут ван Буден встал.
— Ну, я пошел. Скажу господам Залигерам, чтобы их дражайший сыпок катился ко всем чертям.
Снова по губам Леи скользнула усмешка, старая, болезненно-мудрая.
— Эх, ван Буден, ван Буден, ты-то, оказывается, тоже ничего не понимаешь! Да после этих слов их дражайший сынок через минуту будет здесь.
Ван Буден держал обрывки письма так, словно они жгли его пальцы. Хотел что-то сказать, но сдержался и только в дверях, еще раз окинув взглядом ее картину — треугольники, четырехугольники, линии, извилистые, как серпантин, — сказал:
— Знаешь, Лея, последнее время жизнь то и дело тычет меня носом в изречение старого Ансельма Кентерберийского: «Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum — Довольно ли ты размыслил о том, сколь тяжко бремя первородного греха…» Ибо от этих слов идет прямая дорога к познанию нашей действительности. Но познание есть жизнь, есть спасение из хаоса бытия. Мы должны хранить эту веру как зеницу ока. И говорить о ней, покуда бог дает нам время.
Ван Буден ушел. Немедленного отпета ему не требовалось…
Минуту спустя донесся с лестницы голос Эльмиры Залигер:
Читать дальше
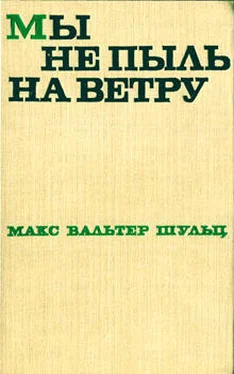





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)