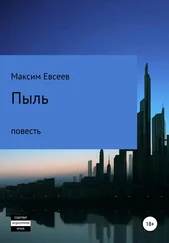Ван Буден мог бы теперь не поддаться ее капризам, мог бы махнуть рукой на письмо и поговорить с ней своими словами. Такую, как она есть, — прижатые к вискам кулачки, под ними короткие прядки волос, такую юную, хрупкую, беспомощную — можно было приободрить од-ним-единственным добрым словом. Но ван Буден продолжал говорить с ней словами Армина Залигера, то ли потому, что от смущения не находил собственных слов, то ли потому, что хотел по-иному повернуть дело, обратить вынужденный проступок в заслугу и взять отправителя письма, который представлялся ему человеком достойным уважения, под свою беспристрастную защиту. Он успел уже пробежать глазами конец письма. И как раз это развеяло его предубеждение: быть может, молодой человек высказывает не свои желания, а лишь то, что сегодня надлежит говорить.
Однако конец письма ван Буден зачитал том же бесцветным голосом, каким читал начало. Вот что там говорилось:
— «Я хочу искупить свою вину. Если ты полагаешь, что тебе будет неприятно встречать меня на улицах Рейффенберга, я навсегда останусь «в изгнании» и забуду родину. На мое имя переписан дом и участок на Рашбахской поляне (список № 81). Участок расположен по южному склону Катценштейна. Если выйти на балкон, оттуда видны вершины Богемии. Ты ведь знаешь этот дом с балконом через весь фасад. Помнится, ты мечтала о таком доме. Первый хозяин назвал его «Орлиное гнездо». Если бы только мне было дозволено подарить тебе это владение…»
Ван Буден видел, как разжались ее кулаки, и подумал, что она успокаивается, а потому с надеждой дочитал до конца:
— «Весь смысл искупления заключен теперь для меня в неограниченном праве возместить причиненное мной зло. Поступай как найдешь нужным, только не заподозри меня в стремлении откупиться, что было бы проще всего. Перебирайся туда, когда захочешь, поселись там с кем захочешь, только позволь подарить тебе этот дом. (Из письма родителей я узнал, что в настоящее время там проживает семья каких-то беженцев. Льщу себя надеждой, что новые власти незамедлительно переселят этих людей, едва лишь ты заявишь — наряду с законными правами — о своих моральных правах.) Повторяю: делая тебе это предложение, я не ставлю никаких условий, решительно никаких. Мне только пришлось бы попросить тебя о соблюдении одной-единственной формальности, конечно, если ты согласна принять мой дар. В этом случае тебе пришлось бы связаться с доктором Бюрингом, нашим рейффенбергским нотариусом, которому я по первому же запросу с его стороны предоставлю все и всяческие полномочия. Родителей я извещу тоже лишь после твоего согласия (если таковое воспоследует), чтобы поставить их перед совершившимся фактом. У меня с родителями в настоящее время отношения натянутые, поскольку я отказался после возобновления занятий в университете изучать приготовление пилюль, а предпочел медицину.
Со своей стороны могу тебя заверить, что никогда еще я не испытывал такого прилива нравственных сил. Прими же, моя дорогая, моя единственная, сердечнейшие пожелания, которые шлет тебе твой
Армин Залигер.
Ганновер, 17 августа 1945 года ».
Ван Буден так же исправно прочел адрес отправителя и дату. Эта полустрочка показалась ему полоской ничейной земли, где он может еще раз отстоять свой нейтралитет. Он сунул письмо в конверт и положил его на стол перед Леей.
— Слово за тобой, мое дитя.
Она не подняла головы, она закрыла лицо ладонями. Но когда он, собравшись уходить, сказал ей: «Я выполнил твое требование. Я сообщу господам Залигерам, что ты прочла письмо», — Лея вдруг стремительно поднялась, схватила письмо и разорвала его вдоль и поперек. Она попыталась вручить ему обрывки, но ван Буден их не взял, он опустил руки и склонил голову:
— Только не это.
Потом все-таки подставил ладонь и согласился передать этим людям на словах, чтоб они не воображали, будто там, где нет обвинителя, нет и судьи. Ей безразлично, совершенно безразлично, встретит ли она когда-нибудь молодого господина Залигера в Рейффенберге или в любом другом месте. И снова она проталкивала слова сквозь стиснутые зубы. Ван Будена охватило сострадание. Он даже осмелился погладить ее по голове:
— Лея, дитя мое, успокойся. Когда ты успокоишься, мы сумеем тебе помочь.
И Лея стерпела его поглаживания. Отцу почудилось вдруг, что на нем почила благодать и отныне он сможет совершать чудеса — руководить и направлять ее по своей разумной воле.
Лея шептала:
Читать дальше
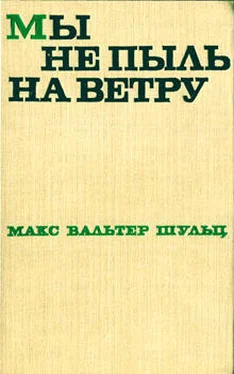





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)