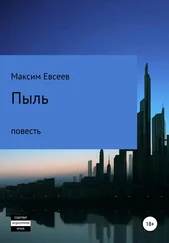Бедный ван Буден поперхнулся дымом и закашлялся. Пусть себе кашляет подольше. Тем временем уляжется гнев, если таковой обуял его. А Лея разыгрывает безумный ужас — разевает рот, будто с перепугу, и кричит якобы вне себя от тревоги:
— Что такое? Что с вами? Скорей за лекарством! Я открою окно! Воздуху… Воздуху…
Атмосфера накалилась. Сейчас грянет гром. Если наш добрый ван Буден намерен и впредь изображать из себя громоотвод, он долго не продержится. А я потеряю лучшего друга. И Фюслер закрывает глаза рукой.
Но Ярослав хлопает ван Будена по спине и говорит тоном, в котором никто не заподозрил бы подвоха:
— Отвыкли вы от континентального табака, мой дорогой. Сигары-то из Богемии.
Ван Буден затих, выпятил губы, хочет что-то сказать. Сейчас он сделает такой глубокий разрез, что никакой шуткой потом не зашьешь шов. Но Ярослав опередил его. И то слава богу…
— А вот старый мастер, о котором вы меня спрашивали, не стал бы звонить в колокола, если бы в те времена на страну напали турки, нет, он не стал бы звонить — разве что в набатный колокол. Уж он-то знал, что такое прекрасное и что такое боль. В средней части алтаря — снятие с креста, помните — лицо матери, склоненное над телом убитого сына… Вы хорошенько его рассмотрели, господин пан Буден? Вы заметили, что лицо матери сурово, что она сдерживает боль? Боль нельзя вообразить. Мастер это знал. Человек, который отдается боли, внутренне подчиняет себя ей, становится безобразен. А теперь вспомните позу и особенно руки матери: здесь вы видите прекрасную боль, господин ван Буден, боль, доступную изображению, доступную сочувствию, доступную оценке. Это боль, исполненная готовности превозмочь себя. Вы обратили внимание, что мать левой рукой поддерживает тело у себя на коленях, так обняв его, чтобы ладонью закрыть рану на груди. Мать закрывает страшную рану левой рукой. А взгляд ее устремлен на правую руку. Правой она красиво расправляет складки набедренной повязки — единственной, последней тряпицы, которую они ему оставили. Человек, желающий одолеть боль, — так я понял старого мастера — подчиняет свою деятельность законам прекрасного: преобразовательный закон жизни переходит в преобразовательный закон искусства. Его способ выражения должен быть общедоступен и насыщен высоким содержанием. Чем больше людей он сумеет потрясти, тем лучше, всякие выкрутасы неизбежно ведут под гору… Но здесь — хочу я того или нет — для меня начинается вопрос о классовости искусства. Кажется, Горький сказал, что эстетика сегодняшнего дня есть этика завтрашнего.
Ярослав смолкает и начинает усиленно дымить — сигара, того гляди, погаснет. А ван Буден выпятил губы давно уже — наверно, чтобы подыграть в нужную минуту. Да так и не подыграл. Теперь у него нет для игры ни нот, ни флейты. Вы только послушайте, что он сейчас говорит, наш добрый ван Буден:
— Если мы хотим быть хозяевами своих мыслей, будь то в искусстве или и жизни, мы но должны привязывать себя ни к какой точке зрения, ни к какому «изму».
На мой взгляд, он грешит преизбытком либерализма, а преизбыток либерализма вреден для здоровья. Да и Ярослав в два счета разделался с ним:
— Вы хотите сказать: не привязывать себя ни к марксизму, ни к социализму, ни к коммунизму, ведь так? А вы не забыли еще, в чем вы упрекали моих эмигрировавших товарищей, говоря о понятии «конкретно»?
Ван Буден сосет погасшую сигару. Вообще он не любитель сигар, курит их лишь ради компании. Да, Ярослав задал ему нелегкую задачу. Когда он заговорил, лоб у него пошел морщинами.
— Вчера в связи с понятием боли я, господин Хладек, говорил о становлении конкретной свободы человека. Мне думается, человек должен миновать врата боли, если хочет найти путь к себе самому и к свободе, пусть даже обусловленной. И эти врата, которые знаменуют собой выход из рая наивности, не заколотить каким-то «измом». Сознавая, что иду извечным путем человечества, я, однако, должен вам откровенно сказать, не чувствую под ногами твердой почвы. Мне хотелось бы еще раз сослаться на одного современного философа: «Когда отсутствие почвы под ногами вызовет у нас головокружение — а самое страшное еще впереди, — помните одно: все пройдет, бог останется… Даже Европа для нас не последний рубеж. Европейцами мы станем лишь тогда, когда станем людьми в полном смысле этого слова, это значит — людьми естественными и целезавершенными, а ведь и то и другое объединяется в боге…»
«Голубой час»… Он пробил. Настало время для мыслей под знаком меры и веса. Вот и Лея подтянулась. Она больше не кладет ногу на ногу, она забыла свои сердитые речи, сидит, как старшеклассница, что замечталась, глядя прямо перед собой, она глубже постигла, что такое боль и что — прекрасное, чем все мы, старики, вместе взятые. Сидит, плетет косицу из бахромы клетчатого пледа, без всяких претензий накинутого на плечи…
Читать дальше
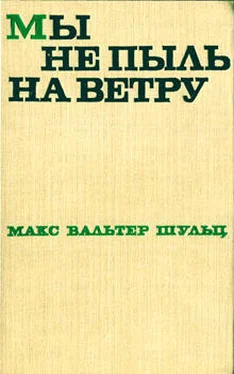





![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)
![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)