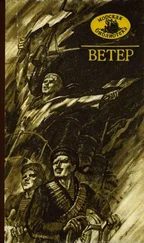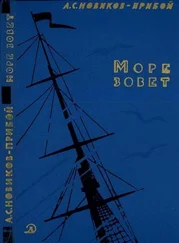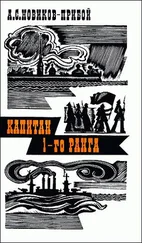Настроение у всех было мрачное. Слух о близости японских миноносцев каким-то образом докатился и до нашего броненосца, проник в команду.
Многие думали, что, может быть, нас сейчас взорвут здесь же, на рейде. В разговорах чувствовалась подавленность.
Ночь была темная. Выл ветер в снастях, хрипло били волны в борта, скрежетали якорные канаты. У мелкой артиллерии дежурили комендоры и офицеры.
Сторожевые суда светили прожекторами, а на мачтах эскадры вспыхивали огни сигналов.
В эту ночь я долго не мог заснуть, ворочаясь на своей подвесной парусиновой койке. Большинство электрических лампочек было выключено, а те, что горели, мало давали света. Вокруг меня и по всей жилой палубе, на расстоянии друг от друга в каких-нибудь пол-аршина, белели ряды подвесных коек, привязанных к бимсам. На них спали матросы. В полусумраке казалось, что это не койки висят на шкентросах, а держатся на потолке своими щупальцами какие-то длинные существа с выпученными вниз животами, странно молчаливые, кое-где шумно сопящие носом. Броненосец покачивался. В мозгу бессильно бились мысли, стараясь забежать вперед и угадать судьбу эскадры.
Потом почему-то представлялся Курош, стучащий себя в грудь кулаком и с плачем раскаивающийся в своих преступлениях [1].
С утра 2 октября наша эскадра, разбившись на четыре эшелона, начала последовательно сниматься с якоря.
После обеда с либавского рейда ушел последний эшелон, в котором находился и наш броненосец. Выстроились в две кильватерные колонны: в правой «Суворов», «Александр III» и «Бородино»; в левой — «Орел», транспорт «Корея» и спасательный буксирный пароход «Роланд». Шли неторопливо, делая не больше десяти узлов.
Вчера, встревоженное ветром, ярилось море, а сегодня оно только зыбилось.
Низкое и серое небо провожало нас слезами мелкого дождя. Матросы, находившиеся на баке, тоскливо оглядывались назад. За горизонтом исчезал последний русский порт.
— Не скоро теперь увидим родной берег, — сказал гальванерный старшина Степан Голубев, игрок на гитаре и любитель петь чувствительные романсы, и на его широком лице, словно от удивления, приподнялись брови.
Другой гальванерный старшина, Николай Романович Козырев, узкогрудый и всегда согнутый, с сухим рябоватым лицом, знаток русской и всеобщей истории, никогда не унывающий человек, весело промолвил:
— Да, месяцев через пять, не раньше.
— А может, и совсем не придется походить по русской земле, — недовольно отозвался мрачный гальванер Алференко.
Все трое были мои друзья. Беседуя с ними, я понял, что они уже знакомы и с нелегальной литературой. Считались хорошими и надежными товарищами.
Тут же находился и мой прежний знакомый, с которым я плавал на крейсере «Минин», кочегар Бакланов. Человек этот был чрезвычайно ленив и грязен, славился тем, что мог, забравшись куда-нибудь за двойной борт, проспать тридцать часов подряд. При своем низком росте весил около шести пудов, настолько он был широк. Покатый лоб с шишками, густые брови, широкий нос седлом, заплывшие и насмешливые глаза, презрительно вывернутые толстые губы, крупный и тупой, словно колено, подбородок, — все эти черты выделяли его лицо из общей массы. Страдал он, несмотря на свою неповоротливость и малую затрату энергии, обжорством и постоянно жаловался:
— Казна с голоду не уморит, но и досыта не накормит.
Я никогда не забуду случая, какой произошел с ним три года назад. На верхней палубе крейсера «Минин» он столкнулся с Рожественским. Бакланов давно сменился с вахты, но, по обыкновению, был грязен. Адмирал рассвирепел и, призвав двух вахтенных унтер-офицеров, приказал им:
— Вымыть это чучело! Да хорошенько! Не жалеть ни соды, ни мыла! И песком продраить его!
Кочегара схватили, раздели догола и окатили из шлангов водою. Потом четыре здоровенных матроса взялись смывать с него грязь. Натирали, не жалея силы, песком голову, шею, лицо, уши и все остальные части тела. Кочегар ворочался, кряхтел, морщился. Опять поливали его из двух шлангов, струи которых били настолько сильно, что он едва удерживался на ногах; опять принимались надраивать его песком, как медяшку, стирая на нем кожу почти до крови. После этого мыли еще с мылом и содой. Через полчаса его нельзя было узнать: таким чистым и с такой тонкой и нежной кожей он, вероятно, был только в первый день своего рождения.
На «Орле» у кочегара был неразлучный земляк, минер, по прозвищу Вася-Дрозд. Так прозвали его за то, что он сочиняя стишки сам распевал их, как песни. Правда, стихи его были слабые, сентиментальные, со слезой, но матросам они нравились. Длинноногий, с большой вихрастой головой, он ходил, немного горбясь, как будто носил на себе тяжелый груз. Характеры у обоих были совершенно различные: один слишком ленив, махнувший на все рукой, другой слишком кипуч, мечтавший завоевать жизнь. Выходили они на бак как будто для того, чтобы обязательно поругаться между собою.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу