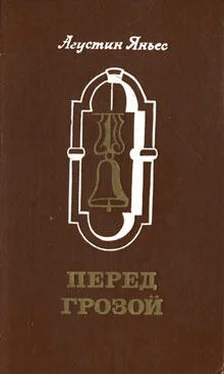— Какое оскорбление сеньору священнику! Это горе его убьет.
— Да уж, из этой передряги ему не выбраться, ведь он такой больной, такой старенький, чуть живой!
— Поистине, она хуже Иуды!
— Говорят, из-за нее прогнали Габриэля.
— Из-за нее прогнали Габриэля. Злодейка!
— Из-за нее прогнали Габриэля. Распутная!
— Я уж с ней бы разделалась, попади она в мои руки!
— А что сделает Габриэль, когда узнает об этом!
— Какой позор всему селению! Стать революционеркой!
— Злая душа!
— Падшая — этим она и должна была кончить!
Всю ночь, весь день, все следующие дни не прекращались толки-перетолки, беспощадные толки; перемывали грязное белье. Бесконечно. Жадные толки мужчин и женщин, живущих ненавистью.
Ночь, и день, и все последующие недели. Испепеляя память о беглянке. В спальнях, в лавках, на площади, на паперти, на улицах, на дорогах, на засеянных полях. Упорно, настойчиво.
— Говорят, порчу на нее наслала комета!
— Падшая!
— Передают, что еще здесь она говорила, как жаль, дескать, что она — не мужчина, чтобы выступать против несправедливостей.
— Надо же оправдать свое распутство!
— Микаэла сделала лучше, предпочла, чтобы ее убили, чем идти грабить.
— А эта? Ей мало было бежать с одним, бежала со всей этой сворой. Где это видано!
— Из-за нее отослали Габриэля.
— А уезжая, она тоже вопила: «Да здравствует Мадеро!» — будто пьяная, и кричала, что едет сражаться за справедливость для бедных, и у нее были карабин и патронные обоймы, — да к тому же она скинула свое черное платье.
— У них уже было заготовлено, у нее и у вдовы, обе надели цветастые платья. Бесстыжие!
— Всегда она была отъявленной привередницей: ей, видите ли, в нашем селении места не нашлось.
— Волк всегда в лес глядит. Верно, вся эта чернь уже ею натешилась.
Даже из детских уст, перекошенных презрительной гримасой, тоже слышалось:
— А племянница сеньора священника уехала со многими мужчинами.
— Как всегда. — Таков был категорический ответ, данный сеньором приходским священником причетнику, который осмелился войти к нему и спросить, будет ли он служить раннюю мессу: через несколько часов, когда ночь — эта зловещая ночь — кончится. Свое усердие причетник попытался облечь в ласковую заботу: он пришел уговорить дона Дионисио отдохнуть, просить его не подниматься рано или хотя бы осведомиться, — частью из-за искреннего сожаления, частью из-за болезненного любопытства, — не надобно ли ему чего-нибудь. Суровый взгляд и резкий жест оборвали речь непрошеного гостя, который тут же ретировался, даже забыв пожелать «спокойной ночи».
Нет. Никто не внесет яд своей жестокости в рану казнимого. Убежденный в собственном бесчестии, он смог превозмочь себя — противостоять гибели. Лихорадочные поиски беглянки ни к чему не привели, и он закрылся у себя, не согласившись даже, чтобы его проводил до дома падре Рейес; он прибрел к себе, как человек, в чье тело вонзились кинжалы, который силится победить головокружение, заставить притихнуть стоны плоти, мятеж сердца. Тревоги и мучения дня, и даже этот последний выстрел в святыню его человеческих привязанностей, не могли сокрушить его, пока он по достиг убежища в своей комнате; и лишь здесь, закрывшись, он не смог более сдержать слез и клокотавшего в груди рыдания, мнимое спокойствие покинуло его на какое-то мгновение, — нет, на несколько мгновений, — и сразу же, едва переступив порог, он бросился на колени и начал твердить псалмы скорби.
Так, коленопреклоненный, не двигаясь, он провел час. Из смертельной подавленности его вывел было причетник, но тут же он вернулся в сад скорбных молитв: «Transfer calicem… transfer calicem… verum tamen nonmea voluntas… omnia tibi posibilia… transfer calicem… sed non quod ego volo» [127] «Пронеси чашу… пронеси чашу… но не моя воля… все возможно тебе… пронеси чашу… но не чего я хочу…» — слова Христа в Гефсиманском саду («Моление о чаше»).
. В скорбь его молитв вторгались мирские образы, нежность земного, боль позора, мучительное будущее. Мария-малышка, Мария-проказница, Мария-скороспелка, живчик, почемучка. Огнем преисподней сжигались воспоминания о семейных радостях, ласках, шутках. И тут же возникала угрюмая фигура Габриэля, Габриэля — в чьих руках пели и стонали колокола, Габриэля, убежавшего из семинарии, похищенного той женщиной. Никого он не мог защитить. Не мог защитить Луиса Гонсагу, ни Мерседес Толедо, ни Микаэлу Родригес, ни Рито Бесерру, ни падре Исласа, ни вдову Лукаса, ни дона Тимотео, ни Дамиана. Жалкий пастырь, который позволил красть своих овец! Жалкий пастырь, который позволил раскатиться разноцветным шарикам и не мог направить их на праведный путь! Год от года все чаще и чаще сбивались с пути юноши, призванные трудиться на виноградниках господних. И — сколь это ужасно! — все больше девушек обрекали себя на гибель. Все его усилия, его беспрестанный труд порождали лишь взрыв яростного сопротивления. Много раз с удовлетворением он думал, что хорошо потрудился, — и вот бог покарал его гордыню, нанес ему ужасное поражение, отнял у него все самое дорогое. Отныне он навсегда предмет насмешек для своих верующих — уж если даже агнца, прижатого к груди, не спас он, отдав его на заклание.
Читать дальше