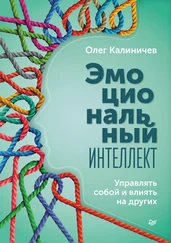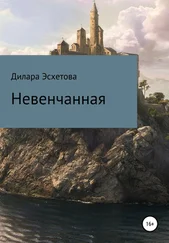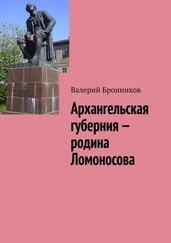— Там и не очень высоко, — торопясь поделиться своим свидетельством, вмешалась другая рассказчица, — только уголь сегодня шёл крупный, глыбистый. Она упала, а на неё сверху глудки стали валиться. Пока ленту остановили, а она уже готова. Не то что упала, а глудки её побили.
— Говорили же мастеру — огорожа нужна, а он: не высоко, мол, тут — и голову не морочьте.
— Это не высоко, когда угля полно в бункере, а тут, как назло, почти весь скачали. Её, сердешную, через нижний люк вытаскивали.
Словно ветерок прошёлся по толпе: зашикали, насторожились… Шурка поднял голову и увидал, что с посёлка бежит костлявая старуха — растрёпанная, босая. Толпа расступилась, а она с разбега упала на землю, стала в пыли на четвереньки и одной рукой сдёрнула с лица погибшей чей-то не совсем грязный (должно быть — нижний) платок. Голубое лицо Тони Зиминой было обращено к небу.
— Господи милосердный! Как живая… Вроде о чём-то хорошем подумала.
Сдавленный крик Тониной матери заставил Шурку съёжиться. Не в силах слышать и видеть это, он повернулся, чтобы уйти. Со стороны конторы бежал, придерживая одной рукой шашку, полицейский надзиратель. Сейчас он тут начнёт «наводить порядок», сердито расспрашивая, как всё произошло. При этом станет покрикивать на баб, ругаться, требуя от них таких слов и выражений, которые удобно и безлико укладываются в казённый протокол.
Наливаясь тоской и злобой, Шурка пошёл прочь.
Назаровка пережила это событие, как и многие подобные, с тупой обречённостью. «Случай, — говорил надзиратель, наблюдая за поспешными похоронами, которые в таких случаях оплачивала контора, — мало ли бывает… Случай!» И через месяц-другой даже на Конторской пустоши забыли, что была такая Тоня Зимина. Играли в «платочек», танцевали под гармошку, которую Шурка всё чаще доверял младшему брату. Сам же он долго не мог избавиться от боли, которая вначале ослепила, удивила своей неожиданной силой. Ведь не было в его душе любви или серьёзного влечения, только шевельнулась однажды жалость. Крохотное семя этого чувства с такой силой пошло в рост, что ломило грудь от напряжения.
…С началом войны в Назаровке создали потребительский кооператив. Всю зиму спорили, обсуждали, дважды устраивали собрания пайщиков. Партийная группа социал-демократов после очередных потерь затаилась: одних забрали на фронт, других арестовали… Да и какая работа, если сами партийцы не доверяли друг другу, а то и просто боялись провокаций. Рабочие часто вообще не понимали различия между большевиками и меньшевиками, только с началом войны кое-что стало проясняться. И тут большевики оказались в щекотливом положении — как объяснить людям, что поражение России в войне пойдет им на пользу? У агитатора могли спросить: — «Ты за то, чтобы немцы побили наших, забрали в плен, пришли сюда?» За такое и поколотить могли.
Братья Чапраки в партию так и не вступили, но симпатии их были на стороне большевиков… И не потому, что им нравилась программа партии, Им нравились такие люди как Валентин, Андрей Пикалов, Четверуня — люди отчаянные, решительные, готовые на крайние действия. Да и они считали братьев своими. Вот Четверуня и предложил избрать в правление кооператива Шурку. На посёлке его хорошо знали, особенно молодёжь, поэтому через него можно было оказывать своё влияние на эту организацию, на настроения в посёлке. Но на пост председателя кооператива управляющий протащил своего человека — инженера Кушнерука.
Шурка уже не раз ездил с кем-нибудь из членов правления закупать продукты — в Мариуполе они брали хамсу в бочках и вяленую тарань в рогожных кулях, в Гадяче закупали ящиками сало, под Курском — картошку. Случалось, проплачивали углём, который выписывали тут по местным ценам и отправляли попутным транспортом. Но цены всё росли, и никакого удержу им не было. Не мог же кооператив, даже рабочий, торговать себе в убыток! Фунт печёного хлеба доходил в цене до десяти копеек и больше. На выборке надо было простоять у ленты целый день, чтобы заработать на буханку хлеба.
Но без потребиловки было бы ещё хуже. Дело, которое она вела, оказалось не по зубам даже Елисею Мокрову. Его кабак осенью четырнадцатого закрыли. Вернее — запретили продавать водку. Тогда по всей России закрывали кабаки и винокуренные заводы, так что к следующему году их не осталось совсем. А доход Елисея на водке и держался. Попробовал он развернуть торговлю продуктами — не получилось. Оскудели базары, уменьшился подвоз. Оптом, а значит по дешёвке, уже никто не хотел продавать. Если мужик вырывался из села с товаром — сам стоял у прилавка. У Елисея хватило сил лишь на то, чтобы удержать «обжорку» — своего рода харчевню, где неизменно подавали суп-кондёр со шкварками, мясные, картофельные и еще чёрт знает из чего накрученные котлеты, селёдку с луком… К нему ходили конторские да кое-кто из холостяков. А сохранить Назаровке душу живу помогала кооперативная лавка.
Читать дальше
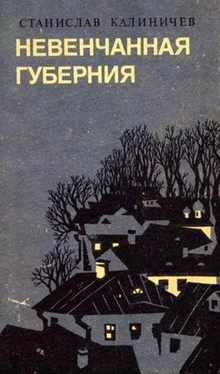
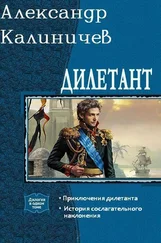
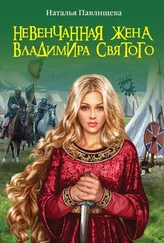
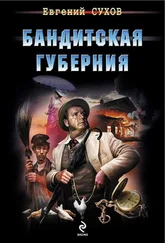


![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)