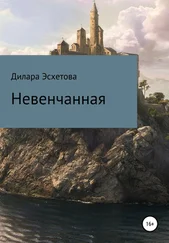— Да, да, одевайся, — обрадовался он и коротко прикрикнул: — Гаврюха!
Но прежде подошла Соня. Она, должно быть, поняла состояние сестры и без предисловий посоветовала:
— Возьмите извозчика, что у ворот. Я с бабушкой договорюсь: или тут переночует, или к себе увезу.
Ромка согласно кивнул, обернулся к Гаврюхе и сказал ему несколько слов. Но тут снова вмешалась Соня.
— Пусть ваш друг мне поможет.
Ромка только глянул — и Гаврюха подошёл к ней.
Под бессвязные выкрики Штрахова, причитания бабушки и Марии Платоновны, команды Тимохи (удерживать хозяина ему уже помогал Шурка) молодожёны покинули дом. Роман разбудил извозчика. Тот вначале заартачился.
— А барыня куды делась?
— Барыня угорела — много сахару поела.
— Шо-о?
— Погоняй, тебе говорят. Аванс велела простить. А я своё заплачу.
Из ворот выскочил Гаврюха и кинул в пролётку, к их ногам, бабушкин тючок. Видно, Соня позаботилась.
— В Рутченковку ехать, чи шо?
— В Назаровку.
Извозчик сдёрнул с коня попону, взобрался на козлы и прикрыл ею свои коленки, подоткнул концы под зад. Оглянулся на пассажиров, едва различимых под тентом, и тряхнул вожжами.
— Н-но!..
И покатили от штраховского дома. Нацу колотила дрожь. Мелкая изморось переходила в колючий дождик, его капли заносило ветром под тент пролётки, они липли к лицу. Пролётку бросало на ухабах, и Наце казалось, что падает в чёрную и холодную неизвестность. Ромка холода не чувствовал, ему было хорошо. Мелкий дождичек уютно шелестел по тенту, а залетающие капли приятно холодили разгорячённое лицо. На ухабах пролётку раскачивало, и тогда Наца мягко приваливалась ему под бок. Только всё ёжилась. Неужто замёрзла? Обхватил её одной рукой, чтобы согреть… Ещё пуще сжалась и постаралась высвободиться.
— Что с тобой?
— Плохо… Голову ломит.
Он охотно поверил. Да она и не лгала — всё болело.
Приехали в Назаровку. В кабаке ещё светилось, тренькала балалайка. Возле шахты слышалось тяжёлое дыхание кочегарки, звонки стволового, на эстакаде гулко стучали колёсами вагонетки. Ночная смена «качала добыч».
Под лай соседских собак он провёл Нацу через дворик. Вынутым из-под порога ключом отпёр дверь, и оба вошли в остывшую конуру барака. Чиркнул спичкой, зажёг стоявшую на окошке керосиновую лампу и перенёс её на угол плиты — чтобы свет падал и в «комнату», за занавеску. Наца как вошла, так и стояла у косяка двери.
— Проходи, раздевайся, — обернулся он и хотел помочь снять пальто.
— Н-не надо, — передёрнула плечами, — холодно.
— Тогда садись, я сейчас плиту растоплю.
Метнулся во двор, принёс сухих дров, ведёрко крупных кусков угля, стал шуровать кочерёжкой, расчищая колосники от прикипевшей золы. Она сидела на широкой лавке, что тянулась вдоль стены, уходя концом в «комнату». Занавеска была сдвинута ближе к плите, и Наца видела железную кровать, застеленную старым стёганым одеялом. Из-под кровати выглядывал цинковый таз с грязным бельём. Занавеска была захватана руками, один край её лоснился. Над плитой, ближе к кухонному окошку, на вколоченных в стену гвоздях, висели шахтёрки: долгополый пиджак, парусиновая куртка со споротыми карманами, застывшие двумя трубами от въевшейся пыли штаны. И всё это рваное, много раз чиненное, как выражалась бабушка: латка на латке — игла не была.
Лишь одна вещь тут казалась по-своему нарядной, даже щегольской — коногонский кнут: короткая резная рукоять (длинным кнутовищем в шахте не размахнёшься), бахромчатая кисть обрамляла толстый, почти негнущийся жгут, который всё утончался, переплетения кожаных шнурков вытягивались, пока не переходили в хлёсткий сыромятный язычок. Он был символом Ромкиной профессии, скипетр и держава настоящего коногона.
В печке всё живее стали потрескивать дрова, повеяло теплом. Роман подбросил угля, закрыл заслонку. Обтерев руки о занавеску, обернулся.
— Давай уже, снимай пальто.
Чуть отстранясь, сама сняла пальто и отдала ему. А он стоял рядом, не зная, куда себя деть, как подступиться к ней, что сказать. Жалостливо скривившись, попросила, как, должно быть, просит кусок хлеба человек, который никогда не был нищим:
— Я хочу спать.
— Да вот же — кровать… — Ромка впервые увидал свою конуру чужими глазами. Стало стыдно и горько. Спохватился, вспомнил: — Сейчас развяжу бабушкин тючок. Ты постели, как лучше.
Стащила тяжёлое одеяло, стала разворачивать новые простыни. Руки дрожали. Единственной реалией в бреду происходящего ей виделся коногонский кнут. Не поднимая глаз — боялась встретиться взглядом, — прошептала:
Читать дальше
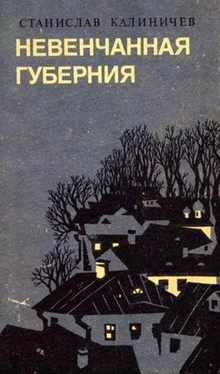





![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)