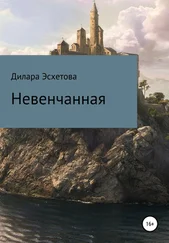— Может, подвезти вас? — нерешительно спросил Степан Савельевич. — Скажу Тимохе, чтобы запряг линейку. А мне ещё на рудник надо.
— Не стоит, папа, найдём извозчика.
Екатерина Васильевна поцеловала ребят, перекрестила каждого и вышла вслед за Софьей и её детьми. Держась за её подол, переступила порог и малая Таська.
Провожать их вышли и Дина с Нацей, и все остальные, кроме Степана Савельевича да Клевецкого. Хозяин так и сидел за столом — несколько растерянный, чувствуя нехорошую тяжесть на сердце. Откуда у Сони такая враждебность к нему и что уж такого плохого в его отношениях с Леопольдом? Ведь Соня — единственная из дочерей, которая характером пошла в него — на пушку брать не станет. У неё такие слова не от игры ума рождаются — из души вылетают.
— Ну, что закручинился, Степан Савельевич? — сказал Клевецкий. — Родственники — это зло, которое мы получаем от рождения. Застраховаться от них невозможно. Я вот многих своих в глаза никогда не видел.
— Конечно, конечно, — прогоняя от себя тревогу, — отозвался хозяин. — Старшего пристрою. Парень грамотный, в кузне отцу, говорят, помогал. Пристрою смазчиком. А своего барбоса выгоню. Я ещё утром хотел, но не нашёл его, где-то пьянствует.
— Да, конечно, — поддержал Клевецкий, — я скажу инженеру.
— Но куда деть меньшего?
— Пустяки. Сегодня воскресенье — на Первой линии все двери настежь. Если мы с вами пройдёмся, неужели кто-то из хозяев да не возьмёт?
У Клевецкого было отличное настроение. Степан Савельевич подумал, что под такое настроение у Леопольда и дела выходят удачно. Приятный человек — и живёт легко. Придёт сейчас, отдохнёт, напомадится, проведёт вечер в своё удовольствие, да ещё между делом нужного человека встретит, любезными словами перекинется, и смотришь — дело сделано. Ему же, Штрахову, и в воскресенье надо снова ехать на шахту, проследить, найти для работы в ночную смену слесарей, которые ещё не перепились, да и самому по локти в мазут придётся залезть.
В комнату возвращались провожавшие Софью.
— Так поедем, что ли? — предложил Клевецкий.
— Да, конечно… А где эти парнята?
— Во дворе сидят, смотрят, как Тимоха кобылу кормит.
— Я не прощаюсь, — Леопольд Саввич лучезарно улыбнулся женщинам, — заеду ещё, как обещал барышням.
— Уже уходите? — удивилась Надежда Ивановна.
Ей хотелось поговорить с сыном не при госте, сказать что-то важное, главное… а что именно — сама ещё не знала. Так и не присев, он потопталась и вышла вслед за мужчинами.
Братья сидели на крылечке, а бородатый Тимоха охаживал буланую. Увидев выходящего хозяина, ребята встали. Он посмотрел на них и прошёл мимо. Надежда Ивановна остановилась, обняла ребят за плечи, вздохнула:
— Храни вас Господь! За маманю не беспокойтесь, Софья не обидит, не думайте. А уж как придётся вам… Старайтесь. Ежели что, приходите ко мне на Рутченковку.
Между тем мужчины уселись в дрожки. В них было только два места. Степан Савельевич позвал мальчишек и велел садиться на дно возка: одному справа, другому слева, в ногах у взрослых. Тимоха последний раз поправил упряжь, затолкал в зубы кобылке железки удил и пошёл открывать ворота. Степан Савельевич дёрнул вожжи, которые ёрзали над самой головой Серёжки, и они поехали.
Братья сидели спиной друг к другу, и каждый мог рассматривать только одну сторону улицы. Она упиралась в большую, как боровухинский бугор, остроконечную гору, которая дымилась в нескольких местах. Ветер размывал над нею изжелта-сизые облачка, заполнял улицу ядовито-сладким запахом серы. Ниже, в просветах между домами, виднелись плоские, покрытые толем, и горбатые, крытые черепицей — крыши домов, сарайчиков, похожих на большие собачьи будки. На несколько секунд открылись берега речки — далеко внизу, — усыпанные какой-то паршой: не то кучами хлама, не то вспученной от неизвестной болезни землёй. Серёжка догадался: землянки. По дороге от Рутченковки они проезжали мимо таких земляных нор, в которых, как черви, копошились люди.
Дрожки свернули в переулок, и за смердящим бугром стала разворачиваться панорама завода, окутанного тучами пыли, хвостами чёрных и жёлтых дымов. Ряды труб распускали дымы в несколько ярусов, так что верхушки самых высоких дымарей выглядывали из плывущих под ними облаков. И всё это ухало, лязгало, шипело на тысячи ладов. У Серёжки запершило в горле, но вдруг в густом и горячем воздухе он различил родной, как будто прилетевший из Заречья, запах железной окалины, запах отцовской кузни. Голова закружилась от сосущей душу тоски. Он прикрыл глаза.
Читать дальше
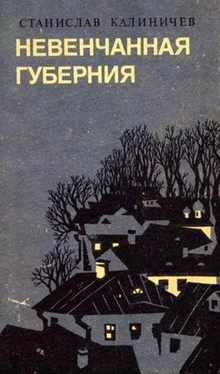





![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)