На дворе лежала, сброшенная врагом на парашюте, громадная в тонну весом бомба. И молодая женщина в ватнике, скинув с головы солдатскую шапку, стучала, стучала, стучала… Молотком она сбивала с фугаса зажимные кольца. «Тук-тук», — стучал молоток. «Тук-тук», — стучал метроном радио. «Тук-тук», — стучало в висках…
В эти дни вскрывали полы на хлебозаводе, уже выворачивали на складах мешки, в хлеб шла целлюлоза и обойная пыль. «Тук-тук», — трудилась женщина на дворе, и на нее смотрели черными впадинами глухие молчаливые окна… К вечеру она добилась своего: сковырнула кольца, вывернула из бомбы трубочку запала, сунула ее в карман гимнастерки и ушла, покачиваясь. Дома ее ждали четыреста граммов хлеба и голодные глаза умирающей дочери. «Тук-тук-тук», — стучала она в двери, но ей никто не открыл. И тогда женщина, победившая бомбу, поняла, что уже никто никогда ей не откроет…
…Помню, я спал и мне снилась продуктовая карточка. Большая — в газетный лист. И чьи-то добрые руки резали талон за талоном, и сыпался на стол хлеб. Но даже во сне это не были буханки — это были комки хлеба, черные и серые, каждый точно в 125 граммов весом. Не больше и не меньше!
И я еще ни разу не был на Пискаревском кладбище.
Миша Дудин, ты написал, говорят, прекрасные стихи на памятнике всем павшим в блокаду Ленинграда.
Прости, я не читал их… Я — не могу! Я не забыл…
Два красноармейца с полами шинелей, завороченных за пояса, выросли вдруг из вихрей метели, и — закричали:
— Не стреляй, шпана лиговская! Мы же — свои…
Эти двое потом долго шли от Пулкова бодрым солдатским шагом, пока из мрака не выступил силуэт Фрунзенского универмага, зияли в мраморных стенах дыры прямых попаданий, серебристо высвечивали осколки разбитых витрин.
— Здесь, — сказал один, — вот и эта улица…
На Софийской, совершенно вымершей, два солдата долго искали нужную квартиру. Жикал в руке фонарик, скользя по номерам. Лестница не имела ступеней: обессиленные жильцы выплескивали нечистоты прямо на лестницы, и образовался ледяной каток. Вот по этому-то катку, цепляясь за перила, двое вползли на четвертый этаж.
Долго барабанили — нет ответа. Рванули двери — открыты.
Вошли. Жик-жик-жик — фонариком. Комната… Лежат поперек кроватей, вскинув застывшие ручонки в варежках, дети. Мертвые. А возле погасшего камелька сидит мать. Тоже мертвая.
— Не здесь, — сказали пришельцы с передовой, вступая в другую комнату. — Вот он… вот он!
Пахло, пахло… Стояли на остывшей печурке сковорода, а на ней — подгорелые комки лошадиного навоза. И лежал старик, завернувшись в пальто. Руки его, бессильно брошенные, были испачканы в навозе и возле рта было тоже черно… Ел! Недавно он ел…
Пришельцы постояли молча. Один из них взялся за пульс:
— Нет, — сказал, — он еще жив… Князь Мышецкий!
Руки Мышецкого заерзали вокруг. Шаря, что-то выискивая.
— Что он ищет? — спросил один.
— Карточку, конечно… успокойте его!
Заворотили ему пальто. Вздернули старику рубашку. Обнажилась желтая сухая спина. Глубоко вошел шприц в это тело, мутная вакцина, оживляющая человека, побежала по крови, отгоняя призрак смерти. Потом влили в рот Мышецкому коньяк, и он открыл глаза — уже смотревшие из другого мира.
Перед ним стоял его сын — по батюшке Сергеевич, но, скорее, Бурхард-Адольф… И его товарищ по черному делу — барон Бильдерлинг, капитан вермахта, отныне (но не навсегда) лужский помещик.
Стягивая с себя шинели, располагались как дома. Как в казарме. Ломали стол — топили печурку. А сковородку с навозом выкинули в коридор, как погань. Она задребезжала в пустой квартире — страшно. У них в мешках было все — от обойм с ракетницами до обильной жратвы, завернутой в целлофан и жесть.
Пленка смерти исчезла с глаз Сергея Яковлевича, зрачки посвежели, и он, глядя на родного пришельца, думал о себе: ведь это он сам, только еще молодой и красивый, и все это — бред, это уже не он, а некто иной… И это и есть — смерть!
— Я ведь его никогда не знал, — сказал сын Бильдерлингу по-немецки. — Не случись революции, он бы сейчас занимал высокие посты в империи… В сорок лет был уже тайным советником!
Мышецкий все понял, но даже не шевельнулся.
«Акмэ!» — Дорога ему предстоит дальняя. Очень дальняя…
Он оставил их, сытых и разморенных, спать. А сам скатился по лестнице во двор… Думал о хлебе. Только о хлебе! В кулаке его, крепко сжатом, покоилась отныне его судьба — карточка.
Напротив бань, возле часовой мастерской, которая глядела на улицу циферблатом без стрелок, стыли возле дверей булочной люди. И он пошел к ним с одним словом — таким понятным:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
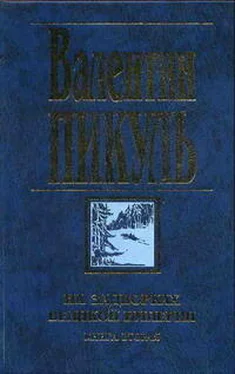

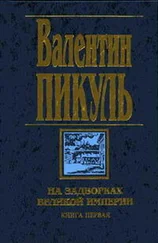







![Елена Звездная - Темная империя. Книга вторая [publisher - SelfPub]](/books/433185/elena-zvezdnaya-temnaya-imperiya-kniga-vtoraya-publi-thumb.webp)

