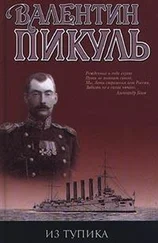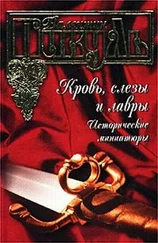— Если бы мы не пошли на поводу у этого честолюбца Браухича, все было бы иначе: мы бы уже качали нефть в Майкопе, нам бы не пришлось цепляться за сугробы под Демянском.
Гитлер почти с ненавистью разглядывал большие хрящеватые уши Гальдера, ярко-красные от прилива крови; фюрер уже привык к лести, но на такую грубую лесть он не улавливался:
— Вы оба с Браухичем бюрократы, а разница меж вами та, что Браухич без очков, а вы без очков ничего не видите. Вам бы, Гальдер, где-нибудь торговать двухспальными кроватями для молодоженов в глухой баварской провинции, а вы допущены мною в большую стратегию…
Уши Гальдера стали совсем алыми, и, наверное, он припомнил атташе Кёстринга, назвавшего генштаб «конторою по скупке старой мебели у бедного населения».
В подземных бункерах «Вольфшанце» гудела электростанция, от калориферов исходило приятное тепло.
В белокафельной ванной благоухало озоном и даже фиалками. Паулюс и Гальдер вышли из душевых кабин одновременно.
— Как вы могли стерпеть подобное обращение?
— Но я же не Ричард Львиное Сердце! — отвечал Гальдер. — И я не могу при каждом случае выхватывать меч, чтобы разрубать обидчика от макушки до копчика… Вы не надейтесь, Паулюс, отсидеться за бастионом своей безупречной респектабельности. Придет время, и вас тоже поволокут кастрировать, как блудливого и жирного кота. И как бы вы ни визжали, фюрер все равно сделает из вас своего паиньку…
Паулюс решил отмолчаться, держа руки по швам я его пальцы чуть подрагивали, касаясь малиновых кантов генеральштеблера.
Побывав дома, он известил свою дражайшую Коко:
— Фюрер у нас взбесился — всем генералам устроил разгон. Правда, его гнев еще не коснулся Рейхенау. Но сколько лучших умов потеряли за эти дни вермахт и генштаб… Правда, ко мне он по-прежнему внимателен и даже подчеркнуто вежлив, зато другим коллегам достается от него как никогда.
Елена-Констанция заговорила совсем о другом — о трудной беременности дочери, о консультации у лучших гинекологов Берлина, рассказывала, что ее беспокоило:
— Я родила сразу двойню, а теперь думаю: не наследственное ли это, и не станет ли Ольга, как и я, рожать близнецов?
Горничная, как всегда, уже подносила яичный ликер.
— Благодарю. — Паулюс оставался со всеми вежлив…
Ночью он долго не мог уснуть, и жена сказала ему:
— Ты приучил себя к первитину… о чем ты вздыхаешь?
— Мне сейчас вспомнилась одна строчка. Кажется, из Гейне: «Я лишаюсь сна, когда по ночам думаю о любимой Германии»!
Жуков стал членом Ставки Верховного Главнокомандования в самые тяжкие для страны дни, народ уже знал его, верил ему. За время войны поредели волосы, черты лица замкнулись в суровости. Говорил резко, точно, без сантиментов. Его боялись враги, но побаивались и свои, когда он выезжал на фронты, чтобы навести порядок железной дланью, за которой ощущалась сила поддержки самого Верховного (как тогда для кратости именовали Сталина). Среди командиров сложилось такое присловье — вроде окопного анекдота: «Если Жуков приедет злой, — всем врежет по первое число, а уедет веселым. А коли навестит добрым — обязательно всем по шеям накостыляет и уедет от нас злее черта…»
Георгий Константинович и с рядовыми не бывал приторно-ласков, в солдатские котелки не лез со своей ложкой, подражая «отцам-командирам», ищущим дешевой популярности. Нет. В беседах с солдатами говорил редко, да метко, больше спрашивая людей своего возраста — откуда сам, что думает, где семья, каковы боевые пути-дороги, бывал ли в окружении.
— Я из четырех котлов выгребся, — похвастал «старик».
— Ну и как? Штаны прохудил, небось?
— Первый раз прохудил. А потом-то и пообвыкся. В окружении не смерть страшна, а непонятность — что где творится? В котлах живешь партизаном. Только партизан в своем лесу и остается, а тебе из леса к своим надо выбраться.
В окопных разговорах люди бывали искренни. Один отступал от самого Львова, второй подбил три танка, а четвертый…
— Почему орденов и медалей не вижу? — спрашивал Жуков.
Вопрос каверзный. Солдаты мялись:
— Да кто ж их там, в штабах, знает! Сколько уж раз представляли. Обнадеживали всяко. А как до верху дойдет, там сразу — бац, и даже медальки от них не дождешься.
— Стыдно! — ругался Жуков в штабах. — Сколько по тылам сидят, до пупа обвешались, словно иконостасы, а на солдата бумаг выправить не могут. С чем он с войны вернется? С рассказами? Так в деревне-то не по байкам, а по орденам ценить станут…
Читать дальше