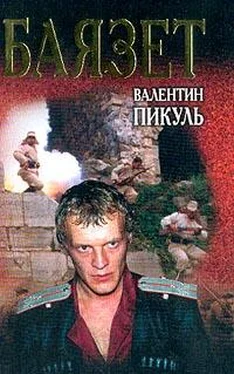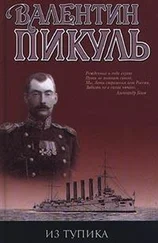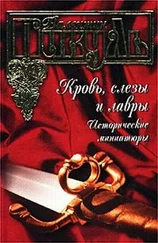— Ишь, разорался, — сказал Дениска Ожогин, когда Карабанов заснул.
— Видать, полковничиха-то наша не дала ему в Игдыре, вот и блажит теперь!
— А ты откель знаешь про то? — спросил конопатый Егорыч.
— Да Сашка Лихов в разъезде был, так видел, как он в окно к ней сигал.
— Хрен с ними, — мрачно заключил урядник. — Дело господское. Да и баба она в соку — только давай. А его высокоблагородие уже не тот гвоздь. Спим, станишные. Завтра небось нашего брата опять в горы погонят…
Но на этот раз погнали не их: полковник Хвощинский решил дать казакам отдых и вывел две сотни из крепости, расположив их на постое у Зангезурских высот, чтобы оградить город с запада, куда, петляя и залезая в горы, бежала дорога через Каракилис и Алашкерт, до самого Эрзерума.
Началась жизнь палаточная — вольная. Однако если в дежурстве, то закон: после водопоя кони оседланы, мундштуки надеты, людям спать в амуниции, ружья держать в козлах. Казакам прислали из степных заводов молодых лошадей — «неуков», очень злых и норовистых. Уманские сотни сторожили от набегов баранты овец и верблюдов, неустанным гарцеванием и джигитовкой втравливали «неуков» в подседельную жизнь. И вскоре в бахвальстве носились сорвиголовы через плетни и ямы, запрыгивали ногами в седла, с хохотом брали товарища в стремя, который на полном аллюре наливал чихиря из фляги в чепурку и давал выпить наезднику.
Карабанов поначалу боялся за казаков, потом — ничего, привык.
— Только шеи себе не сверните, ухари, — просил поручик (сам же он, признавая лишь высшую школу верховой езды, от лихой джигитовки удерживался, чтобы не осрамиться).
Жизнь на высотах Зангезура была и сытнее, чем в крепости, да и Дениска Ожогин еще приворовывал для приварка. Гуртоправы — люди степные, глаз у них зоркий, как у орла-беркута. По вечерам загоняют баранту в глубокую падь, старый гуртовщик окинет стадо одним взором и сразу скажет:
— Нема одной овцы!
Станут считать — все налицо. Назавтра снова выйдет старый гуртоправ, зорко оглядит стадо и снова:
— Нема одной! ..
Пересчитают — опять все.
Дениска сам однажды, будучи под хмелем, покаялся Карабанову:
— Ваше благородие, это же не воровство. Рази же мы украдем? ..
Он, бес этот, даром что старый, а по глазам овец считает. Я-то, не будь дурак, одной овце, которая понаваристее, еще загодя камень на шею вяжу. Овца глаз-то на гуртовщика не подымет, он и орет тогда, что нету. А она тут, ваше благородие, в стаде. Ну, а когда уже привыкнут, что «нема одной», тут ее и кидай в котел: она уже лишняя! ..
— Ну, Дениска, — не раз грозил ему Ватнин нагайкой, — быть тебе, о.
— …в урядниках! — весело подхватывал Ожогин.
— В урядниках, то верно, — хмуро соглашался Ватнин. — Только в драных урядниках! Нагайку-то вот видишь? ..
И, поворачивая над кострами ружейные шомпола, на которых жарились, истекая жиром, куски свежей баранины, уманцы, говорили:
— А што, братцы? Кажись, не по-собачьи живем: людьми стали…
Штоквиц с головой зарылся в свежие хрустящие газеты, пришедшие из Игдыра. Читая, он вздыхал, крепко и подолгу чесался.
— Что вы переживаете, господин капитан?
— Да тут, понимаете ли, иногда прелюбопытные вещи встречаются. Впрочем, и вранья тоже хватает…
Солдат был сух и легок, будто его изнутри выжгло. Солдат еще николаевский — такие редко сгибались. Сразу пополам сломается — и можно в гроб класть. Отшагав свое под барабаном, вернулся солдат в свое Заурядье или Калиновку (это безразлично) и остаток жизни цепко, к себе безжалостно, давай деньги копить. Вот и старость тихая под истлевшим мундиром, затуманились от времени кресты и медали. Солдат трубочки не выкурит, шкалика не опрокинет — все копит, жила бессмертная! По грошику да по копеечке, иногда и побираться пойдет — копит и копит.
Кончилось все очень странно. История об этом солдате обошла множество тогдашних газет, и потому вам известно се окончание.
Двести двадцать пять рублей (немалые деньги) отдал старый жмот на… «пользу славянского дела», а на остальные купил билет до Кишинева и вскоре появился в Сербии, где и погиб в сражении за свободу своих единокровных братьев. Казалось бы, все понятно, а с другой стороны — и не совсем…
— Да-а, — невольно призадумался Штоквиц, складывая газету. — Когда Верещагин едет к Скобелеву, — это мне объяснять не надо: он будет писать картины. Но этот… Да-а. Теперь какому-нибудь из таких и по зубам врезать — еще подумаешь: стоит ли? Может, и он дома корову с самоваром продал, чтобы в Баязет попасть!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу