Михайлов угрюмо слушал все эти разговоры, смешки; в его душе поднимались отзвуки того безвозвратно ушедшего времени, когда, рассматривая маленькую зубчатую картинку, он мечтал о далеких землях с непонятными, красивыми названиями. Со щемящей жалостью вспомнил он вдруг мальчонку, который босиком по росистой траве, холодившей ноги, вышагивал с удочкой за отцом. Так давно и так далеко это было, что мальчик тот казался совсем незнакомым и чужим, увиденным когда-то в кино, а не воспоминанием собственной жизни.
Тому мальчишке когда-то попалась удивительная марка. Диковинное растение с крупными листьями, а под ним невиданный зверь были изображены на марке. И что-то еще написано не по-русски. Учительница на вопросы ребят ответила, что марка австралийская, а на ней изображение кенгуру.
О марке мальчишки взволнованно говорили еще несколько дней, стараясь вообразить далекие страны, по которым она проблуждала, пока добралась до Донбасса, крутили во все стороны старенький школьный глобус, собираясь бежать в неведомые края с чудными, загадочными названиями — Занзибар, Гваделупа, Тасмания...
Но вскоре о марке забыли: в самом селе начиналось такое... Мальчишки от зари до зари вертелись у околицы, выглядывая трактор. Само по себе это событие затмевало все навеянное красочной маркой. А тут еще трактор должна была вести женщина! Мальчишки видели, что даже их отцы, при всем показном безразличии, с волнением прислушиваются, не тарахтит ли машина...
Потом в жизни Ивана Николаевича, как и в любой другой, было еще столько больших и малых событий, важных и смешных происшествий, что далекий детский эпизод, казалось, совсем позабылся. И Михайлов, наверное, так и не вспомнил бы о нем, если бы не оказался на пути в ту страну, откуда много лет назад пришла поразившая воображение старооешевских ребятишек марка. Сейчас ему хотелось вспоминать о марке, о том беззаботном и беспечальном времени... Очевидно, это было подсознательным стремлением вычеркнуть из памяти все гадкое, черное, случившееся с ним затем.
Играючи, перекатывал волны океан, мелькали, сливаясь, шумные, разноязычные порты, проплывали, трубя, важные встречные лайнеры. Но все это пышное великолепие проходило стороной, не задевая чувств. Он снова переносился в родное село, виделось ему, как он, повзрослевший, постаревший, идет по главной улице, и старики узнают его и говорят: «Ванюш-ка-то Михайлов вернулся». Он узнает школу, в которой учился, вот там, на первом этаже, в пионерской комнате, ему повязали красный галстук. «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик...» Тогда был поздний морозный вечер. Он выбежал из школы, переполненный своими чувствами, не застегнув пальто. Концы галстука сразу же подхватил ветер, мальчишка бежал, не замечая ни мороза, ни ветра: «Мама! Меня приняли!»
Воспоминания нагоняли тоску. Разговорчивый попутчик интересовался, что с ним. «Болит вот здесь,— говорил Иван Николаевич, дотрагиваясь до груди, — понимаешь?» Сосед предлагал таблетки, советовал обратиться к доктору. Добрый человек, он просто не знал, что есть болезнь, против которой бессильны доктора и все их таблетки. Болезнь эта — ностальгия, тоска по родине.
Думалось, в Аделаиде, красивом портовом городе, продуваемом солоноватым ветром с океана, днем и ночью слушающем голос прибоя, городе, одетом в вечнозеленый наряд, уймется тоска.
Нет, не унялась. Как фальшивая позолота, сползала с города рекламная мишура. День шел за днем в изнуряющем труде.
Смена на заводе, смена дома. Собственно, дома еще не было. Его нужно было построить. Или купить и... выплачивать сорок лет. Так раньше, чем стали школьниками, младшие Михайловы стали строителями. Подрастали сыновья и дочь, родившиеся на чужой земле.
Вася, плача, приходил из школы: «Ты говорил, что учитель добрый, а он бьется палкой. Хочу в такую школу, где не бьют. Ты рассказывал...»
Толя не может найти работу. Ему двадцать лет, но его никуда не принимают, потому что ему надо платить сполна. А Вася младше, его принимают и платят неполный заработок за ту же работу. «Так не везде, правда, отец? — спрашивают они вечерами.—Ты рассказывал...»
Генка свое первое слово произносит по-русски: «Мама».
Кругом звучит английская речь, дети в школе, на улице говорят по-английски. Дома — только по-русски. Таково требование отца. Ему кажется, если порвется эта единственная нить, связывающая с родной землей, не будет спасения от гложущей тоски.
Читать дальше
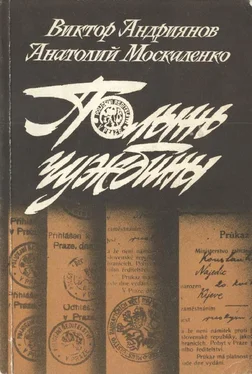

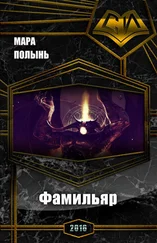




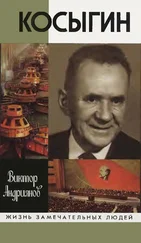


![Виктор Тельпугов - Полынь на снегу [Авторский сборник]](/books/414260/viktor-telpugov-polyn-na-snegu-avtorskij-sborni-thumb.webp)
