О спутниках своей молодости Кальман оставил теплые, даже нежные (у этого молчуна и угрюмца была чувствительная душа, на редкость склонная к дружбе) и превосходно написанные воспоминания. Незаурядный литературный дар сочетался в них с умным и памятливым сердцем. Как жаль, что друзья не ответили ему тем же и не сохранили для потомства черт молодого, слегка робеющего перед авторитетами Кальмана. Это было бы важнее для истории, нежели их собственные портреты, набросанные его рукой.
Но это — так, к слову. Что же касается молодых людей, собравшихся в «Эдиссоне», то, не ведая судьбы и будущего, грядущих успехов и разочарований, взлетов и падений, преисполненные честолюбивых надежд и веры в свою счастливую звезду, они сидели над остывающим мокко и клешнями вытягивали из Кальмана рассказ о его недавней поездке в Берлин, куда он отправился с учебными целями на завоеванную им академическую премию Роберта Фолькмана. Соль этой истории, известной Сирмаи и Якоби, состояла в том, что Кальман, охваченный внезапной губительной страстью, за неделю истратил всю премию-стипендию на впервые увиденные такси. Вначале неуверенно, но постепенно разогреваясь от непривычного внимания слушателей, он поведал, как, робея, опустился на пружинящее сиденье, оперся о тугую спинку, и тут улица со всеми домами, витринами, полосатыми тентами кафе, фонарями, киосками, деревьями в железных клетках, пешеходами, извозчиками и отмечающими каждый перекресток жрицами любви стремительно понеслась назад, спазмом восторга перехватило дух, и он понял, что ничего лучшего не будет в его жизни. Он провел несколько дней в сладком бреду, не увидев при этом города, ибо все мелькало за окошками такси слишком быстро, не позволяя вглядеться и в себя самого, а когда очнулся, то едва наскреб на обратный путь.
— Мотовство тебя погубит, — сказал Мольнар под дружный смех компании, хорошо знавшей прижимистость Кальмана. — Но рассказывать ты умеешь, не ожидал от тебя такой прыти.
Смутившийся было Кальман расцвел — подобная похвала была крайней редкостью в устах Мольнара, который, как и все краснобаи, мог долго слушать лишь самого себя.
Крестным отцом Кальмана в этой компании был добрый Виктор Якоби. Ему хотелось, чтобы его протеже развил свой успех.
— Послушай, Имре, ты ведь ничего не рассказывал нам о поездке к Никишу.
— К Никишу? — потрясенно повторил Мольнар.
Встретиться с величайшим дирижером мира и не раззвонить об этом на весь свет — было выше его понимания. Стоит повнимательней приглядеться к этому флегматичному парню.
— Да это уже давно было, — скромно заметил Кальман.
— Исторические события только выигрывают в отдалении. — Мольнар взял себя в руки и вновь обрел привычный насмешливый тон.
— Ну, будь по-вашему. Я приехал к Никишу после того, как тщетно пытался опубликовать свои лучшие сочинения: фортепианные пьесы, скерцо для струнного оркестра и «Сатурналии». Я просил совсем немного, но издатель заявил, что нотная бумага обойдется ему дороже. И тогда я помчался в Мюнхен к Никишу.
— Ты хотел поручить ему издание своих призведений? — невинно спросил Сирмаи.
— Не совсем так, — хладнокровно отпарировал Кальман. — Я просто думал, что он истосковался по хорошей музыке.
— Великолепно! — вскричал Мольнар.
Подошел официант и хотел забрать чашку Кальмана, но тот быстрым движением защитил черную гущу.
— Ваш кофе остыл, господин Кальман. Я принес горячего.
— Вы что, забыли? Я люблю остывший кофе.
— Дайте господину кофе и впишите в мой счет, — распорядился Мольнар.
Кальман быстро опрокинул в рот гущу и взял новую чашку.
— Я люблю холодный кофе, но еще больше — горячий, — сказал он официанту, — особенно когда за него платит господин Мольнар.
— Услышим мы про Никиша или нет? — не выдержал Якоби.
— Какой ты нетерпеливый, Виктор! — Кальман с наслаждением отхлебнул горячего ароматного кофе и стал обрезать кончик сигары. — Никиш жил в отеле «Четыре времени года». О, это человек! Я принес ему «Сатурналии». Великий дирижер и безвестный композитор сидели рядом, он читал партитуру, что-то бормотал, порой напевал, размахивал руками, а я не смел дышать. «Хорошая работа, малый! — сказал он от души. — Нужно и впредь быть таким же прилежным. Как тебя зовут, сын мой, я что-то запамятовал». Он спрашивал меня об этом уже в третий или в четвертый раз, и я гаркнул изо всех сил: «Эммерих Кальман». «Хорошо звучит, мой мальчик, но я не страдаю глухотой, как Бетховен. Так вот запомни: оркестр — это альфа и омега музыки. Ты и должен его знать от альфы до омеги. С завтрашнего дня я начинаю дирижировать „Мейстерзингерами“, приходи, я посажу тебя в оркестр — к скрипкам. Следующий раз — к ударным, потом — к духовым». Он выполнил свое обещание. Смотреть, как он дирижирует, — райское наслаждение.
Читать дальше
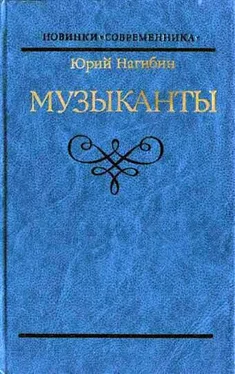







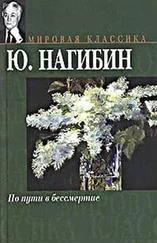
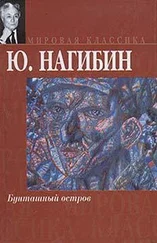


![Юрий Нагибин - Страницы жизни Трубникова [Повесть]](/books/400660/yurij-nagibin-stranicy-zhizni-trubnikova-povest-thumb.webp)