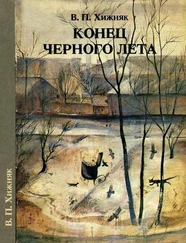Ребенок от удовольствия закрыл глаза и затих — было слышно лишь его причмокиванье. Ольга спешила накормить сына и снова вернуться к серпу.
Немного посидев около сына, Ольга почувствовала усталость во всем теле. Болела поясница, руки были словно переломленные; с трудом могла она разогнуть спину. А перед этим, когда жала, ничего не чувствовала, потому что в мыслях далеко-далеко куда-то улетала от этого места, где ей причинил такую, горькую обиду выродок Никифор. Она была так напряжена, что без устали резала и резала серпом и легко отбрасывала снопы. Работой заглушала едкую боль, стыд. Ольга дрожала так, будто она стояла раздетая на холоде; стучали зубы, и она до крови стискивала губы. Этот трус ничего не скажет боярину после угроз Баранихи, его нечего теперь бояться, но Ольга была оскорблена. Мерзкий тиун протянул к ней свои паскудные лапы, хотел обесчестить мать взрослой дочери! Хотелось сейчас же, немедля побежать во двор к боярину, найти там этого рыжего изверга, схватить его за горло и задушить.
Возле Лелюка Ольга начала успокаиваться. Он, насытившись материнским молоком, задремал. Ольга качала его на руках, напевая колыбельную песню без слов, пока он не уснул; потом осторожно, чтоб не разбудить, отнесла его в тень, под снопы, и побежала заканчивать жатву. За работой Ольга не заметила, как из-за леса подошел к ней дед Дубовик, ее дядя по матери.
— Бог на помощь тебе, дочка! — негромко промолвил он.
Но и от этого спокойного приветствия Ольга вздрогнула и испуганно оглянулась.
— Ой! Вы! — обрадованно воскликнула она. — А я думала, что снова тиун пришел.
— А зачем ему сюда идти? Жницы ведь жнут.
— Садитесь. Да что это я говорю! Это же не в гости к нам домой пришли… — Она обеспокоенно оглядывалась вокруг.
— Не хлопочи, дочка.
— Вы, может, кушать хотите?
— Сказал бы — нет, так не могу.
— Хотите?
— Со вчерашнего дня ничего не ел.
— Я мигом…
Ольга быстро сбегала к снопам, где лежали ее пожитки, принесла краюшку хлеба и воды в жбанчике.
— Спасибо, дочка. Горько мне прошеный хлеб есть. — Старик вытер слезу и отвернулся.
— Кушайте, а я буду жать и вас слушать.
Дед Дубовик дрожащими руками держал хлеб; осторожно откусывая, он подставлял под краюшку ладонь, чтобы не уронить ни крошки. Запивая водой, он рассказывал Ольге о своих скитаниях. Хотя она и без того знала, он рассказывал ей так, будто все это было для нее новостью.
— Тяжело мне, дочка. Без одного лета мне уже восемьдесят. Куда я пойду? Сын зовет, спасибо ему, почитает он меня, но я не могу к нему пойти — у него семеро детишек и жена больная. Горе лютое закупами их сделало. Чем он будет кормить меня? Он и сам хлеба не видит.
— А вы ведь в монастыре были?
— Был, да прогнали меня. — стар стал. Не сладко приходилось мне, хлопу монастырскому, да все же жил кое-как, хоть хлеба давали за мои труды. А когда обессилел, так и со двора вон. «К сыну иди», — говорит игумен. А что сын? Сам знаю, какая беда у него… А был и я молодым. Не только поле пахал, но и в походы ходил, половцев бил. И не один раз. Они мне отметины на боку да на ноге оставили — стрелы загнали. Когда ненастье приближается, болят эти раны, ноет мое тело… У боярина Гремислава хлопом был — вот там горя хлебнул! И как же это хорошо сделал дикий медведь, разорвав Гремислава на охоте! Легче дышать нам стало. Землю Гремислава князь подарил монастырю, мы стали монастырскими хлопами… Думали, что лучше будет. А вышло — одинаково. Работаем мы день и ночь, как закупы у боярина. Огромное богатство имеет монастырь — есть у него и земли, и леса, и борти с пчелами. А карают нас строго — и за больного коня, и за плуг поломанный… Игумен злющий, все равно что боярин. А дань как выжимает!
— Какую дань? Что вы, дедушка? Святая Церковь…
Старик не дал ей закончить:
— Церковь-то святая, да люди в ней есть что звери. Так ты не знаешь о дани? Такую дань, как боярин или князь берут. Есть у монастыря оселища, подаренные князем, и люди там на монастырь работают. Жил я в монастыре, слезы проливал от обиды. Хлопов там и за людей не считают. А монахи — как раскормленные псы, и едят, и пьют без меры. Келарь не успевает возами для них привозить. А мы, хлопы, брашно для них готовим. Сулят монахи да игумены: там, на небесах, для всех людей добро будет, а сами здесь на медах да на мясе жиреют.
— А в поле монахи ходят?
— Да, как бы не так! Что им там делать? Для работы хлопы есть, а монахам молиться велено.
— Куда же вы теперь пойдете, дедушка?
Читать дальше
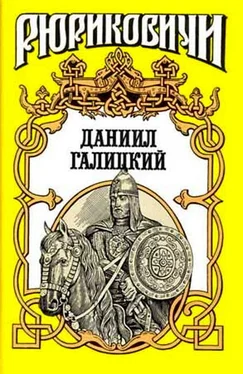




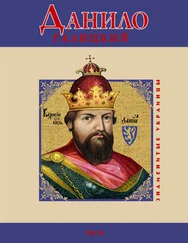


![Михаил Антонов - Новые данные трансцендентального шпионажа за планетой Янтарный Гугон [СИ]](/books/391800/mihail-antonov-novye-dannye-transcendentalnogo-shp-thumb.webp)