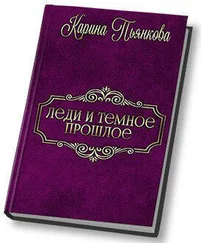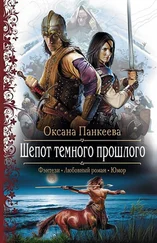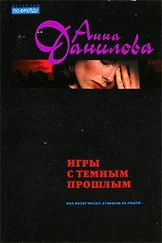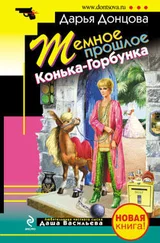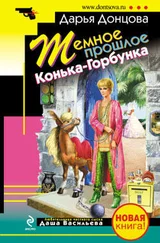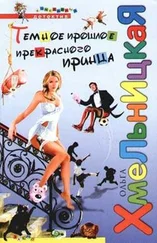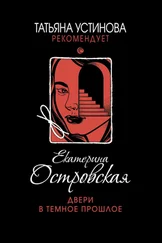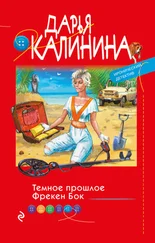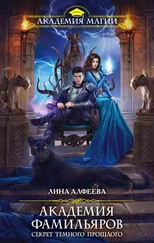Покинутая им императрица, Елизавета Алексеевна, одно время утешалась в объятиях красавца-кавалергарда Охотникова и даже родила от него ребенка (вскоре тоже скончавшегося), но такое утешение сочли недопустимым для царственной особы. Наемный убийца расправился с кавалергардом, положив конец недолгому счастью императрицы.
Что интересно, одновременно с Елизаветой Алексеевной Охотников радовал своими визитами и ее фрейлину, Наталью Загряжскую. После смерти кавалергарда Загряжскую спешно выдали замуж за дворянина Николая Гончарова. Одна из их дочерей, названная в честь матери Натальей, выросла настолько неотразимой, что история ее брака и сердечных порывов сделалась национальным достоянием. Да, да, это она: Наталья Николаевна Гончарова – любовь и смерть Александра Пушкина.
На этом бурном фоне семейная жизнь супругов Голенищевых-Кутузовых выглядит оазисом покоя и взаимного согласия. Ни единой сплетни, на которую могли бы накинуться в петербургских салонах, ни единой тени, брошенной на доброе имя полководца. Пять милейших дочерей, удачно выданные замуж, также ничем не запятнали славу отца. И, на первый взгляд, единственным, что омрачало этот союз, была смерть единственного сына супругов, Николая. Младенцем он скончался от оспы.
«Награждена Божею милостию, что спас Михаила Ларионовича, не только оставил его живого, но и здорового. Услыша сие, была порадована несказанно», – так выражала свое счастье в одном из писем Екатерина Ильинична Кутузова, в девичестве, Бибикова. «Боже мой, как я завидую вам, я не знаю судьбы более прекрасной, как быть женою великого человека!» – разливалась соловьем ее корреспондентка Жермена де Сталь [58]. Однако при этом госпожа Кутузова всего лишь раз и всего на месяц однажды приехала к месту службы мужа, ни разу не последовала за ним в поход, не навещала его ни в Киеве, ни в Вильно, где он служил военным губернатором, и не соизволила даже сопровождать его, когда он, униженный и получивший отставку со всех должностей, уехал налаживать хозяйство в свои малороссийские вотчины. А ведь в это время ему, как никогда, требовалась поддержка близкого человека! Она не сидела у его постели, когда он получил опаснейшую рану под Очаковом, и была слишком далеко, чтобы врачевать раны душевные после Аустерлицкого сражения, когда Кутузов вез в Россию не только незаслуженно свалившийся на его голову позор, но и мертвое тело любимого зятя. Словом, то, что в современном обществе принято называть «гостевым браком», вполне устраивало даму, ставшую, благодаря заслугам мужа, светлейшей княгиней [59], статс-дамой и хозяйкой трехэтажного особняка над Невой, вид из которого открывался не хуже, чем из Зимнего дворца.
Сам же Михайла Ларионович в письмах жене неизменно проявляет себя как заботливый семьянин, регулярно упоминает о подарках, которые ухитрялся высылать родным даже с театра военных действий, и весьма подробно и доверительно описывает свою жизнь, точнее, ту ее часть, которую полагалось знать супруге для ее же собственного спокойствия. «Верный друг Михайла Голенищев-Кутузов» – так подписывает он свои послания, оставляя за кадром то, что «не может существовать без того, чтобы иметь около себя трех-четырех женщин» [60], и, куда бы не забросила его служба, неизменно находит себе новую «владычицу» [61].
Словом, идиллия! Однако супруги строго соблюдали правила игры, согласно которой их браку надлежало быть образцовым в глазах общества. И светлейшему князю и княгине Кутузовым это удалось.
После смерти фельдмаршала Александр I напишет княгине трагически-торжественное письмо, в котором, выражая ей соболезнование, назовет имя и дела ее супруга бессмертными. Она же в ответ попросит государя выплатить ее и мужнины долги. Что и будет им милостиво исполнено.
«…На рассвете, когда травы тяжелы от росы, выходила я в степь и, созерцая их, думала: “В скольких же из вас заключено избавление от мук! Жаль, что мало кому о том ведомо ”…»
Что такое десять лет в жизни лишенной страстей? Пролетают они, как водомерки по воде, не оставляя следа; повседневные дела не запечатлеваются вехами на сердце, а мелкие радости и огорчения не прибавляют веса прожитым годам. И Василиса едва осознавала, что ей уже не двадцать три, как было в момент прощания с Михайлой Ларионовичем, а тридцать три.
Сейчас, когда пошел одиннадцатый год их разлуки, вновь жила она там, где некогда встретилась со своей любовью – в столь много значившем для нее Ахтиаре. Милостью государыни императрицы сменил он свое косматое татарское название на благозвучное греческое Севастополь. Таврида теперь безоговорочно принадлежала Российской империи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
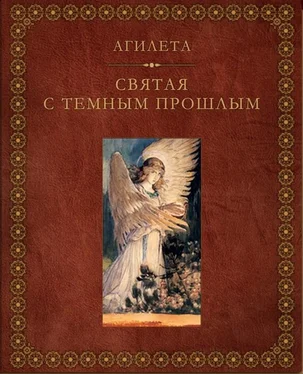

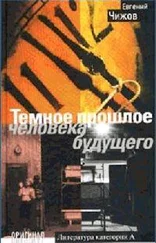
![Оксана Панкеева - Шепот Темного Прошлого [litres]](/books/58291/oksana-pankeeva-shepot-temnogo-proshlogo-litres-thumb.webp)