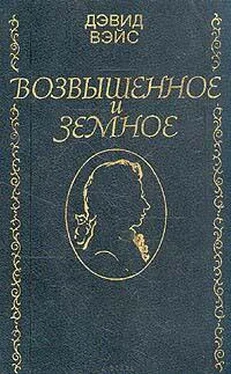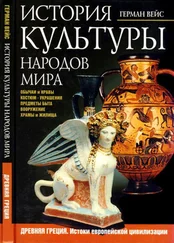Однако нужно было приступать к работе. Огромным усилием воли Вольфганг заставил себя сесть за стол и приняться за концерт для кларнета. Он старался держать себя в руках и не нервничать – это могло отразиться на вещи – и писал музыку неземной красоты.
Потом он снова поел, его больше не рвало, но тупая боль в желудке донимала по-прежнему. С еще большим усердием он погрузился в работу; концерт для кларнета был почти закончен, когда Вольфганг вдруг потерял сознание. Придя в себя, он не на шутку перепугался. Явившийся по его просьбе доктор Клоссет нашел, что обморок был следствием перенапряжения зрения.
– Вы слишком мною работаете по вечерам, господин капельмейстер, – а когда больной спросил:
– Может, я чей-нибудь отравился у Сальери? – доктор скептически улыбнулся и ответил:
– Все артисты отличаются живым воображением. Не следует давать волю фантазии. Простое переутомление. Вам необходим xopoший отдых.
– Но мне нужно писать, работа не ждет.
– Подождет. А где госпожа Моцарт?
– В Бадене. Прошу вас, не пишите ей. Я поправлюсь. Не нужно ее волновать.
Но как ему не хватало ее! Страшное предчувствие, что загадочный незнакомец – предвестник смерти, снова овладело им. Стоит незнакомцу узнать о его болезни, и он немедленно явится.
В последующие дни Вольфганг старательно лечился – отдыхал, сколько возможно, ел с осторожностью; боль в желудке не прошла, но работа кое-как двигалась. Он дирижировал своей кантатой при открытии новой масонской ложи, и хотя кружилась голова и он каждую минуту мог упасть в обморок, вечер, однако, прошел благополучно.
Ван Свитен, присутствующий в зале, был потрясен ужасным видом Вольфганга. Маэстро был мертвенно бледен, исхудал и осунулся так, что на лице остался один нос; в глазах появилось какое-то отсутствующее выражение.
– Вы больны, Вольфганг? – спросил барон.
– Так, немного нездоровится. Отдохну, и все пройдет.
– Вам удалось прочесть мою симфонию?
Он прочитал, но как сказать барону правду! А потом, вдруг с чувством обреченности решив, что теперь уже все равно, жить ему осталось недолго, Вольфганг сказал;
– Прочел.
– Она вам понравилась?
– Дорогой барон, вы знаете, как я ценю вашу дружбу.
– Вам симфония не понравилась. Почему?
– Вы действительно хотите знать правду?
– Разумеется. Я всегда предпочитаю, чтобы мои друзья были со мной откровенны.
Вольфганг усомнился, но отважился высказать свое мнение:
– Пожалуйста, прошу вас, не сердитесь на меня, ваша музыка написана с самыми хорошими намерениями, но она слишком перегружена мыслями.
Ван Свитен стоял, нервно сжимая пальцы, не произнося ни слова.
– Дорогой друг, я бы не высказывался откровенно, знай я, что это причинит вам обиду.
– Я не обижен, просто удивлен. В это сочинение я вложил много труда.
– Это видно. Построена она вполне правильно.
– Тогда в чем же дело?
– Ну знаете ли, многие пишут музыку по всем правилам композиции, но пользуются при этом чужими мыслями, за неимением собственных, у других есть мысли, но они не имеют понятия, как с ними обращаться, как подчинить их себе. Последнее относится к вам. Только прошу вас, не сердитесь. В критике, как и в музыке, я должен говорить то, что думаю. Иначе мне лучше молчать и отложить перо в сторону.
– Я хотел бы получить назад мою партитуру. Сейчас.
Ван Свитен оглядел его неприбранную комнату; без женского присмотра квартира пришла в полный упадок. В неодобрительном взгляде ван Свитена Вольфганг ясно прочел свой приговор. Барон славился педантизмом. Если у Вольфганга и было желание поведать другу о мучающих его болях, об обмороках, то теперь он счел за лучшее промолчать. Вместо сочувствия барон его просто высмеет. Но, вручая ван Свитену симфонию, Вольфганг с жаром сказал:
– Дорогой барон, во имя нашей дружбы умоляю вас, сохраните обо мне добрую память. Видит бог, я мечтал доставить вам столько же радости, сколько радости ваша дружба всегда доставляла мне.
И лишь закрыв за ван Свитеном дверь, Вольфганг дал волю слезам.
Больше он не мог ходить в театр. Иосиф Дейнер, хозяин таверны, где он часто обедал, посылал еду ему домой и сам порой навещал композитора, пока тот мучительно трудился над реквиемом. Вольфганг жил на супе и вине – единственная пища, которую он усваивал, но боли по-прежнему терзали его. Стоило невероятного труда не превратить реквием в жалобный плач, но он призывал на помощь всю свою волю, которой всегда так гордился, и держал музыку в подчинении. Его бог должен быть милосердным богом.
Читать дальше