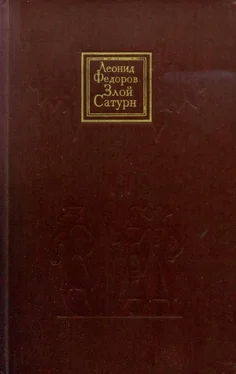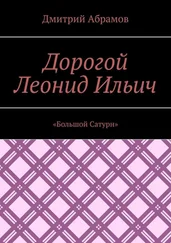Евсюков повертел головой, словно ища свидетелей: дескать, глядите, как порочат человека.
Лихолетов отвернулся, задумчиво поковырял ногтем пузырек вздувшейся краски на перилах и тихо, словно разговаривая сам с собой, продолжал:
— В ту зиму у меня из плашек двух соболей и куницу вынули. По следам определил: двое были. Один-то сам себя объявил — ножичек обронил.
Ефим порылся в кармане и, вытащив большой складной нож, протянул Евсюкову. Тот машинально взял, повертел в руках и, словно обжегшись, швырнул в воду.
— Вот это ты зря добрую вещь утопил. Твой ведь ножик-то. Я его твоей бабе показывал, признала она его.
Кинув косой взгляд на побледневшего заготовителя, Лихолетов жестко закончил:
— Гляди, Пантелей. По чужим тропам не гуляй. В тайге кроме главного ишо законы есть. Свои, неписаные!
— Грозишь! — отшатнулся Евсюков. — Да я…
— Эй, мужики! — вмешался, высунувшись в иллюминатор, Севка. — Кончай базар, а то враз высажу, и топайте тогда пешком по бережку.
— Северьян Егорыч! — просительно заглянул в лицо Севки Пантелей. — Этот гад меня хитником обозвал. Разве такое стерпеть можно?
— Стерпишь, — буркнул Лихолетов и, отвернувшись, прилег возле борта, приладив под голову тюк.
Заготовитель, подхватив свою котомку, отошел подальше к корме и там устроился, посматривая вокруг с обиженным видом. Услышав позади себя шорох, Севка обернулся, Инга щурила припухшие после сна глаза, поправляла волосы.
— Чего они не поделили?
Севка махнул рукой:
— Шут их знает. Я думал, до драки дело дойдет.
— Ну, дядя Ефим зря ссору не затеет. Заслужил, значит, Ботало. Папа его терпеть не мог, захребетником называл.
Накинув плащ, Инга вышла из рубки и, перебравшись через тюки, присела на носу катера. Севке ее хорошо видно. Она ему до плеча, а кажется выше — тоненькая, стройная, как березка. С виду хрупкая, слабенькая. Не один ухажер, бывало, присвистнет с уважением, заработав оплеуху. А она улыбнется: «Всяк сверчок знай свой шесток!» — и разозлиться-то на нее невозможно.
Многие побаиваются ее язычка. Особенно достается Севке. Севка и сам понять не может, когда это они поменялись ролями. Давно ли в крапиву загонял, пугал дохлой крысой или лягушкой, в речке будто топил, дразнил «Зверобоем», когда она чинно вышагивала с отцом на охоту, и на́ тебе! Отливаются кошке мышкины слезы. Что ни сделаешь — все не так. Прошел не так, сказал не этак.
Злится на себя Севка — ну что в девке нашел? Лицо самое обыкновенное. Глаза, правда, ничего. Не глаза, а глазищи. Хитрые, веселые, в мохнатющих ресницах. Скажет Севке ехидство несусветное, а сама ресницами хлоп-хлоп — как ни в чем не бывало… Нос как нос. Не лучше, не хуже, чем у других. И рот самый обыкновенный. Зато когда улыбнется да заиграет ямочками на щеках — забудешь, что и сказать хотел. Удивляется Севка: куда ей до некоторых местных красавиц — а глаз бы не отрывал.
Выросла Инга без матери. Мать-мансийка умерла, когда девчонке было всего два месяца. Отец, наблюдатель гидрологического поста, выкормил дочь из рожка. Оленье молоко приносила внучке бабка. От того молока да от свежего воздуха выросла девчонка крепкой, не знающей простуд. Когда пришло Инге время идти в школу, перевелся Вересков с поста в Нагорное начальником гидрометстанции и зажил с дочерью в доме из крепких лиственничных бревен, срубленном своими руками. Остался вдовцом, не захотел приводить в дом мачеху.
В позапрошлом году окончила Инга школу. От отца уезжать отказалась: «Не уйдут от меня институты. Начитаюсь, наработаюсь — тогда видно будет». Пошла работать на почту. Должность по этим местам почетная, хотя и не женская, — приходится и верхом ездить, и лодкой управлять. Зимой на лыжах пробирается в далекие поселки геологов и лесорубов, разносит газеты и письма. Везде встречают ее с радостью, усаживают за стол, угощают крепким чаем с домашними пирогами.
Отец каждый раз тревожился, особенно когда Инге приходилось доставлять переводы или пенсии. Пытался уговорить дочь пойти на станцию наблюдателем:
— Неплохая работа, а главное — при доме будешь. Девичье ли дело по таежным дорогам болтаться!..
Но характер у Инги — что кремень. Побился Вересков да отступился: в него выдалась дочка и по тайге, как он, бродить любит. Но так и не смог привыкнуть к ее поездкам. По ночам выходил из дому, подолгу сидел на приступке и прислушивался к таежным звукам. Всплеснет на реке весло, или среди тишины звякнет подковой конь — Вересков уже в напряжении: никак, едет!
Читать дальше