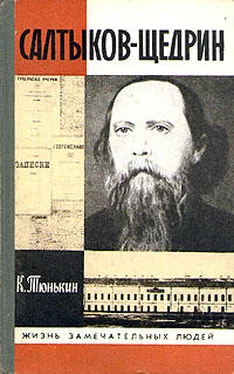Как и первой главой «Современной идиллии», хотел Салтыков рассказами майора Горбылева цензуру в недоумение привести, что ему вполне и удалось, ибо цензура проглотила эти рассказы молча, ни к чему в них не прицепившись. Привел он в недоумение и некоторых читателей и критиков. Плодовитый литератор Петр Дмитрич Боборыкин, пропагандист французского натурализма на русской почве, усмотрел в горбылевских рассказах «балагурство и порнографию» (это Боборыкин-то, автор «клубничного» романа «Жертва вечерняя»!).
Оставалось издеваться и презирать, вырабатывая новую форму аллегорической притчи-сказки. Глупы рассказы майора Горбылева, но это потому, что неразумна, фантастична жизнь пошехонская, автор же так неумолимо и страшно умен, что иной раз даже как-то не по себе становится. Могло ли быть глупо, могло ли быть «балагурством и порнографией» то, что вышло из-под пера Щедрина? И эту подлинную суть, этот постоянно звучащий язвительный голос автора «Рассказов майора Горбылева» читатель-друг, конечно, явственно слышал.
Второй «пошехонский рассказ» тем не менее пришлось начать прямо «от себя». Чего вы, «люди благорасположенные», от меня требуете? В чем суть ваших благопожеланий? Вы думаете, что рядом с Фейерами, Прыщами, Угрюм-Бурчеевыми и Деруновыми существуют Правдины, Добросердовы и Здравомысловы? Что ж, может быть, так и есть, существуют, но мне всегда казалось, что они, сосуды добродетели, и сами-то на себя смотрят как-то сомнительно, как будто не знают, действительно ли они люди, а не призраки.
Но я готов исправиться и не огорчать начальство. Вы предлагаете выслушать и другую сторону (audiaturetaltera pars)? Ну что ж, выслушаем. Что-то из этого получится? А вот что:
«Городничий Ухватов по всей губернии славился своим бескорыстием.
Однажды вечером пришли к нему два мещанина с взаимной претензией.
Нашли они оба разом на дороге червонец. Один говорит: «Я первый увидел!», другой: «А я первый поднял!» И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил.
Тогда Ухватов сказал:
— Вот что, ребята. Положите вы этот червонец ко мне на божницу. Ежели он ночь пролежит и цел останется — значит, вы оба правы и должны разделить червонец пополам; ежели же он исчезнет, то, значит, вы оба не правы и сама судьба не хочет, чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой.
Так и сделали.
Прошла ночь, наступило утро; хвать-похвать — нет червонца! Решили: так как червонец исчез — стало быть, оба мещанина не правы.
С тех пор и мещане, и купцы валом повалили на суд к Ухватову. И он все дела решал по одному образцу. Но этого мало: даже те чины, которые прежде дела решали за взятки, — и те перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова.
А губернатор, узнавши о сем, говорил: «Молодец Ухватов!»
Вот они, Ухватовы (то бишь Правдины), каковы! Может быть, и это балагурство, а не трагедия?
Все громче звучит в «Пошехонских рассказах» собственный, глубоко трагический голос Салтыкова-Щедрина. Неужели же «пошехонская страна» и в самом деле никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, не имела своих Правдолюбовых, своих праведников и искателей? Ведь, как говорит русская пословица, не стоит село без праведника. А ты, как же ты-то стоишь, родное Пошехонье?
Давно уже хотел воспроизвести Салтыков «изумительный тип глубоко верующего человека», связывал этот замысел с именами Петрашевского и Чернышевского. Но ведь это уже высшее, исключительное проявление глубокой и несокрушимой веры, безграничного самоотвержения, характерное ли, возможно ли для Пошехонья?
Характерными для него оказались, пожалуй, два типа реформаторов, противоположных по своей сути и по своей судьбе. Так появляется рассказ «Пошехонские реформаторы». Общим для этих реформаторов было только одно: оба мыслили и говорили не так, как прочие пошехонцы мыслят и говорят.
Рос в бедной семье пошехонского мещанина, бывшего крепостного живописца-богомаза Тихона Курганова тихий мальчик, сердце которого с малых лет «растворено» любовью, — «тихою, ровною, не сознаваемою, но разлитою во всем организме любовью ко всему, которая согревает не только самого любящего, но и весь окружающий его мир». Чувством радости и жаления, каким-то восторгом, пусть смутным и неясным, но сильным, наполнялось его сердце, когда он странствовал по соседним пустыням и монастырям. Чувствовал он, «что за плечами у него вырастают крылья, которые несут его, несут... И сердце ширится и рвется, и глаза куда ни обратятся, везде им навстречу: свет, свет, свет... Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, целовать ноги странных и убогих, плакать, страдать, умереть...» (Как не вспомнить тут Достоевского, наверное, он и вспоминался: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд... Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее. плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков».)
Читать дальше