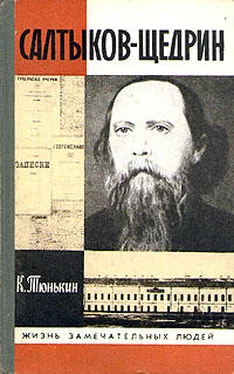А другой царь, Александр I, воспитанный швейцарским просветителем Лагарпом, в начале царствования попытался реформировать устаревшую и застойную политическую систему. Но попытка эта в конечном счете не имела никаких результатов. А близкий одно время Александру Сперанский, предполагавший даже создать в России нечто вроде парламента, был вскоре сослан. (К Александру и деятелям его царствования Салтыков еще вернется в следующих главах «Истории одного города»).
Но Салтыков метит, конечно, и еще в одного «градоначальника», свидетелем и даже участником либеральной реформаторской деятельности которого он был совсем недавно, — Александра II. Конечно, лишь только «ужасом» мог быть вызван весь тот поворот, который совершала после 1862 года правительственная политика, тот фактический отказ от продолжения реформ, который переживала Россия в годы, когда писалась «История одного города».
Такова была судьба либерализма сверху в глуповской истории.
Салтыков как бы собирает в едином фокусе характеристические черты закономерного исторического движения такого самовластного либерализма, осуществляемого с верхов власти, сверху. Этот либерализм или останавливается, сделав первые, робкие шаги (Двоекуров, не выполнил «поручения», «сробев»), или и вовсе поворачивает назад, к привычному «глуповству», сила которого может быть преодолена и разбита лишь сознательностью действующей народной массы.
Прошел год, и в первой книжке «Отечественных записок» за 1870 год публикует Салтыков следующую часть «Истории...» — трилогию о глуповском градоначальнике Фердыщенке, собственно, повествование о безмерных народных бедствиях, обрушившихся на глуповских «мужиков».
А пока что, постепенно «формируя» в своей художественной фантазии продолжение сатирической истории Глупова, Салтыков не оставляет публицистического осмысления современной русской жизни, прежде всего жизни русской провинции (седьмое и следующие «Письма о провинции»).
Провинция глухо молчит, она не выделяет из себя сколько-нибудь творческих элементов. Она «не высказала и не выразила ничего, потому что нет у нее главного условия, которое необходимо для жизни деятельной и полагающей почин, — нет самосознания...». Провинциальная интеллигенция при первой же возможности стремится поскорее покинуть уездные и губернские Палестины с тем, чтобы устремиться в центры — Петербург или Москву. Лишь мужик как сидел на своем наделе, так и продолжает сидеть, ежегодно совершая вместе с природой весь земледельческий круговорот да платя причитающиеся подати и исполняя повинности.
Так в чем же дело? Салтыков убежден, что причина всему этому «оголению» жизни несомненна: крепостничество не умерло, а продолжает жить, и это-то особенно заметно не в волнующихся и кипящих центрах, а во все еще спящей мертвым застойным сном провинции. Именно оно, крепостничество, до своей отмены убивало «в самом зародыше всякий проблеск народной самодеятельности», ибо строилось на неограниченном произволе одних и столь же безграничной случайности безмолвного существования других.
«Историографы» хотели бы видеть причину современного «оголения» жизни в отмене крепостного права, которое хоть как-то обеспечивало существование. Но ведь «крепостное право не в том только заключается, что тут с одной стороны — господа, а с другой — рабы. Это только внешняя и притом самая простая форма, в которой выражается крепостничество. Гораздо важнее, когда это растлевающее начало залегает в нравы, когда оно поражает умы, и вот в этом-то смысле все, что носит на себе печать произвола, все, что не мешает проявлениям его дикости, может быть столь же безошибочно названо тем именем, в силу которого какой-нибудь Ивашка или Семка, ложась на ночь спать, не знали, чем они завтра станут: ключниками ли, хранителями господского добра, или свинопасами». «Порок так называемого крепостного права не в том одном состоит, что оно допускает явно безнравственные отношения между людьми, а в том, что при существовании его невозможен успех, невозможна жизнь... Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крепостничество уничтожено, а потому, что оно дышит, буйствует и живет между нами. Нам тяжело жить — это правда; нам тяжелее, нежели отцам нашим, — и это опять правда, но не оттого совсем, чтобы условия современной жизни изменились к худшему, а оттого, что они мало изменились к лучшему».
В своей привычной творческой скудости провинция по-прежнему уповает на «распорядительность» (смешиваемую при том с «производительностью»), которая придет откуда-то извне и все неурядицы и невзгоды разрешит. На ту же административно-бюрократическую «распорядительность» — наследство крепостного права и владычества «четырнадцатиголового змия» — возлагаются надежды и в центрах. Между тем провинции надо дать жить.
Читать дальше