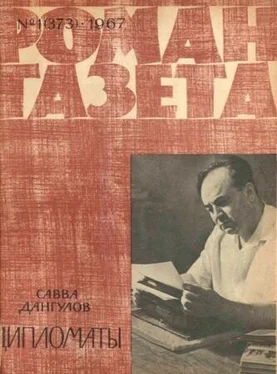А в городе становится все сумрачнее, все медленнее идут по улицам автомобили, все громче кричат их рожки. Иногда кажется, что автомобили идут тоннелями. Вдоль набережной — один тоннель, от набережной до Фурштадской — второй. И еще кажется: в городе живы только посольские особняки, только они и бодрствуют. Все остальное рассеялось, провалилось в тартарары.
Но занимается ветер, студеный, неукротимо крепчающий, он дует с великих русских равнин, словно им дышит сама Россия. Он вторгается в город, и под его напором литые пласты тумана распадаются, точно лед на весенней реке. Рушатся сумеречные тоннели, по которым шли автомобили, и гаснут огни. День возвращается на землю, а с ним оживает и город большой, объятый нуждой, воодушевлением и веселой тревогой. Голос мальчишки-газетчика весел: «Ленин сместил Духонина и назначил Крыленко!.. Русская армия под началом прапорщика!..» И мрачный возглас (лица не видно, щедр бобровый воротник): «Докатились… генерал козыряет прапорщику!»
Была зима семнадцатого года.
Близился вечер, и медленные сумерки уже втекли в дом и заполнили все его поры. Николай Алексеевич снял пиджак. На улице еще не зажигали света, и небо казалось неестественно низким. Шел трамвай, дуга скользила по проводам, рассыпались искры, и дрожащий огонь долго держался над улицей, и дома, дым над ними, облака, снег зеленели. Репнин переоделся, взял с книжной полки Коленкура и, включив ночничок, прилег. Но даже любимый читаный и перечитанный Коленкур не шел.
— Ты спишь? — в дверях стоял Илья.
— Нет, брат. — Николай Алексеевич подобрал ноги. — Садись поближе. — Ему нравилось, когда брат сидел где-то рядом. — Здесь удобнее.
Но Илья Алексеевич сел у двери.
— Мне тебя отсюда лучше видно, — заметил он, и по стесненному дыханию Репниц почувствовал: брат неспроста отказался сесть на кушетку. — Да, мне лучше отсюда, — повторил Илья по инерции, лишь бы что-то сказать, видно, другие думы владели сейчас им. — Послушай. Николай, сегодня утром, когда мы вернулись к тому разговору, — он помолчал, — меня смутила одна твоя фраза…
Только сейчас Репнин обратил внимание, что брат был не в домашнем костюме, как обычно — бумажные брюки, вельветовая куртка. Илья обожал вельветовые вещи, — а в пиджаке.
— Смутила фраза? Какая именно?
На миг Илья, казалось, перестал дышать.
— Ты сказал, что тебя попросили составить перечень тайных договоров, заключенных Россией в нашем веке. — Илья на минуту умолк — то ли длинная фраза утомила, то ли ждал ответа от брата. Он извлек из жилетного кармана часы, шумно открыл крышку и так же шумно закрыл, старший Репнин волновался и должен был дать работу рукам. — Но ты понимаешь… о каких договорах идет речь?
— Да, разумеется, очевидно, и Бьерк, и тройственный секретный пятнадцатого года, и тот Покровский-Думерг, да только ли это…
Старший Репнин поднес к уху закрытые часы, прислушался — сквозь серебряную оболочку были слышны удары маятника.
— Надеюсь, ты не так прост, чтобы не понять — дело не в инвентаризации…
— Что ты хочешь сказать, брат?
И опять исчезло грохочущее дыхание Ильи, исчезло на мгновение, чтобы возникнуть с новой силой.
— Что сказать? Не сказать, а спросить: ты… Репнин?
Николай Алексеевич обернулся к брату и увидел: тот пытается возвратить часы в жилетный карман и не может — часы точно вспухли.
— Репнин.
Илья зажал часы в кулак, но высоко поднять не смог — цепочка не пускала.
— Нет… нет… тебя, как нитку вокруг пальца. Да, вот так, вот так… — Илья выдвинул толстый мизинец и обернул вокруг него цепь. — Так вот.
Николай Алексеевич подошел к брату.
— Ты не витийствуй. — Он взял из рук Ильи часы и вложил их в жилетный карман. — Хочешь, чтобы тебя слушали, говори спокойно, да тебе и вредно этак. — Он пододвинул стул, сел. — Ну говори.
Илья встал и тихо пошел к окну.
— Погоди, я должен успокоиться.
— Успокаивайся. Там в кувшине холодный квасок.
Было слышно, как Репнин-старший стучит стаканом, не в силах с ним справиться.
— Ну теперь можешь?
— Ты слыхал когда-нибудь, что сделал твой прадед Пармен Репнин, когда младший сын вернулся в Россию с женой-полячкой? — спросил Илья. — Нет, он их псами не затравил, он был человек просвещенный и казнил гуманно: проклял и выгнал в белое поле. Сурово? Но за измену не милуют.
— Измену?
— А ты думал что? — Голос Ильи наполнился гневом. — А знаешь ли ты, что к Бьерку, худо ли, хорошо ли, причастны и я, и твой отец, а тройственное писано вот этой рукой? — Он протягивал Николаю пухлую ладонь, всю в красных пятнах. — Коли мы это делали, наверно, думали о благе России не меньше твоего, а?
Читать дальше