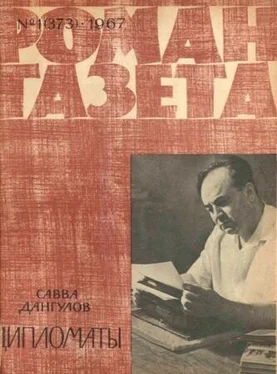Когда Петр очутился на улице, небо над городом показалось ему резко-синим каким он никогда не видел его прежде.
Пароход уходил из Абердина. Как накануне, падал снег, обильный и мокрый. Впереди шел катерок, и мощный прожектор высвечивал воду. Где-то там, в Северном море, судно встанет под охрану военных. А сейчас было хмуро и холодно. Шотландский берег исчез, как только пароход отчалил, даже огни на берегу растеклись бесследно.
Петр смотрел на Чичерина. Воротник демисезонного пальто был приподнят, от этого Чичерин казался и выше и стройнее. Снег падал на лицо, серебрил виски, бороду — человек старел на глазах.
— Дерзость — дипломатическое качество? — спросил Петр и нетерпеливо посмотрел на Чичерина.
Чичерин молчал и смотрел во мглу, точно там искал ответа на вопрос, который был задан.
Поздно вечером, когда судно вышло в открытое море. Петр поднялся на палубу. Море было сизо-фиолетовым, гудящим. Черные с проседью, стлались тучи, когда они приподнимались над водой, виделись корпуса кораблей, идущих рядом. Сыпал холодный дождь, но уходить с палубы не хотелось. В сознании Белодеда вдруг возникло лицо Набокова, облитое мерцающим светом камина, и весело, радостно-лихо стало Петру. Чем-то этот поход в посольство был похож на поступок Степняка, врубившего кинжал в нетвердую грудь Мезенцева!
Однако дерзость все-таки дипломатическое качество! Это же здорово — вот так явиться к тирану или к тому, кто представляет его, и сказать, что он должен уйти. Ведь если освободить отношения между людьми от толстого слоя мишуры, которой их обременили годы, если прогнать всех швейцаров в ливреях и без ливрей, сжечь на большом костре горы ярко-белой хрустящей бумаги, украшенной водяными знаками и еще не исписанной посольскими каллиграфами («Ваше превосходительство!..». «Бесконечно признательный Вам…». «Ваш покорный слуга…». «Слуга…». «Слуга…». «Слуга…»), если расколотить эти бра, которые тоже врут, создавая таинственно-торжественный полумрак там, где никакой таинственности и торжественности нет, а есть ложь, если все это испепелить и истолочь в ступе, то люди должны вести себя так, как повел себя Белодед с Набоковым. Пришел и сказал: вы здесь по недоразумению, господин, и лучше, если… Впрочем, больше можно и не говорить, будет многословно. Он-то, Набоков, должен догадаться, о чем идет речь. В октябре на Дворцовой площади и того не говорили.
Надо, чтобы и впредь было не иначе: человек, оставшись один на один с тем миром, чувствовал бы себя так, словно в нем, только в нем сейчас Россия, и он вправе говорить от ее имени. Люди не рыбы в океане. Они могут и не ходить косяками. Иногда они остаются одни. Ведь мы же доверяли тому костромскому или тверскому парию, которому дали гранату и, указав на царские хоромы, сказали: «Иди разговаривай и, если надо… огнем!..» Почему же мы должны ему доверять меньше сегодня и завтра? Он меньше предан революции? У него убавилось ума? Время непоправимо подсекло его волю? Нет и нет!
А Чичерин прав: иногда будущее видится нам и совестью нашей, и нашим другом, и нашим судьей. Непросто представить зримо, каким оно будет, будущее, но его голос Петр слышит явственно. «Действуй так, как велит тебе твоя преданность новому миру! Не робей, не оглядывайся, не опасайся, что кто-то схватит тебя за рукав и скажет, будто ты слишком самостоятелен. Будь самостоятелен! Действуй свободно, во всю мощь ума и опыта, набирайся сил и иди дальше! Если надо, остерегись… если велит тебе разум и опыт, трижды испробуй, прежде чем сделать шаг, но шаг этот сделай, без него не добудешь победы».
Петр вошел в кают-компанию. Еще на лестнице, где ощутимо распознавался голос моря, он уловил едва слышную мелодию — внизу в полутьме играл Чичерин. В стороне сидел старик в вязаной куртке и с погасшей сигарой во рту? устремив на Чичерина взгляд крупных, навыкате глаз. Но Чичерин, казалось, не видел его. Он был во власти мелодии. Нет, в ней не было многогласной могучести — не слышались ни медь, ни трубы, ни даже гудящие струны виолончели и альта, что созвучно неумолчному голосу грозной толпы или шуму леса. Этот голос был и сердечнее, и сокровеннее. В безбрежном море, наполненном гудением шквального ветра, перед которым не было преград, звучал голос, вызванный к жизни человеком, слабый и все-таки неодолимо стойкий.
Старик в вязаной куртке задумчиво жевал потухшую сигару. Он был обескуражен и насторожен. Кем ему виделся Чичерин, артистически играющий Моцарта?.. Сыном английского ленд-лорда, порвавшим с семьей и ушедшим в искусство, вечным студентом или артистом, бездомным и гонимым?
Читать дальше