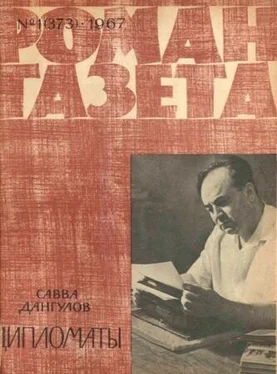— Петр! — послышалось за спиной.
Белодед обернулся. Ему показалось: Кира пробует улыбаться. И вся она какая-то сникшая, будто ей хочется отступить и умчаться.
— Пойдем, — сказала она.
Спустились к реке.
Пароход тянул баржу. Когда баржа попадала в полосу света, они вдруг видели, что там свой мир, до смешного самостоятельный: собака ходит у конуры, ветер треплет белье, развешанное на веревке, в деревянном домике посреди баржи светится окно, наполовину закрытое кружевной занавеской. Человек в старых залатанных брюках чистит ботинки. Перед кем он будет щеголять в них на барже?
Они стояли и смотрели на баржу, и все их мысли были там, будто они пришли сюда единственно для того, чтобы взглянуть на мир, медленно движущийся по воде, хотя ничего удивительного не было в нем, все было так же, как на берегу, даже обыденнее. Он первый понял это.
— Ты поедешь? — спросил Петр и поразился, как изменилась Кира за эти два дня. — Поедешь?..
Она подошла к краю каменной площадки, подошла так близко, что ее отражение возникло в воде.
— Ой, как мне трудно, — сказала она и приникла щекой к его плечу.
Он сжал ее руку, как сжимают руку ребенка, когда переходят дорогу, заполненную быстро бегущими автомобилями, заставил отойти от берега.
— У тебя голова закружится.
Но Кира улыбнулась, и опять он заметил: в улыбке не было радости.
— Нет… голова у меня не кружится.
А потом они сидели на деревянной лестнице, спускающейся к реке.
— Я не буду тебя спрашивать ни о чем… Когда скажешь… тогда скажешь, — заметил Петр.
— Я все скажу… тебе…
Он посмотрел вокруг: вода и холодный камень, негде уберечься и капле тепла.
— Я хочу слышать твой голос, — сказал он и ощутил ее руку у себя на груди — только и было жизни, что в теплой руке.
— Я стояла тогда в комнате и смотрела на ель.
— И видела, когда я подошел к ели?
Ее ладонь продолжала лежать у него на груди.
— Видела. Я хотела распахнуть окно и окликнуть тебя…
— Не зажигая света?
Она молчала. Ну конечно же, она и теперь не решалась уехать. Именно она, а не Клавдиев. Но что ее удерживает здесь? Мать настаивает. Мать знала о Петре и враждебно сторонилась. А может, всему виной больной брат? Нет, все в ее призвании, в работе. Она как-то сказала: «Уеду туда, и все может погибнуть, я могу не суметь там, страшно сказать, не почувствовать». Значит, все в красных скалах. Это все-таки предрассудки, но предрассудки честного сердца. Вон как ее свело и покорежило за эти дни.
— Я знаю: тебе трудно сказать…
— Нет, я скажу.
Она забралась под рукав, и ладонь медленно продвинулась от запястья к локтю.
— После твоего отъезда я говорила с Клавдиевым. Он сказал: «В Россию поедем вместе». Тан и сказал: вместе.
— Но когда это будет? — спросил он.
— Летом или осенью, — ответила Кира. — Той осенью, — уточнила она.
И вновь смятение охватило его. Нет, стена не рухнула, она существует и сейчас кажется более неодолимой, чем прежде.
— Навсегда?
Она не ответила. Только покрепче сомкнула губы и, как некогда, жгучей чернью налились зрачки.
— Ты требуешь от меня… — Она не отводила глаз.
— Нет, скажи, — попросил он; никогда прежде она не противилась с такой необоримой силой, как сейчас.
— Я скажу… Сейчас скажу, — вымолвила она, но глаза, мускулы лица, линии подбородка, даже очерк волос надо лбом, до сих пор такой мягкий, странно напряглись.
— Я не говорю о себе, но ты… дала слово отцу. — Он почувствовал, что и его голос стал непривычно жестким.
И он вспомнил августовский полдень и белое облако над самой маковкой ели, что растет под Кириным окном. Кира приподняла верхнюю доску шахматного столика, что служил и письменным столом, и пододвинула к окну. Пахнуло острым, не притупившимся за годы запахом лака и табака. «Вот здесь все», — сказала она. Петр увидел низку ярко-желтых четок; наверно, из Болгарии, подумал он. Флакон в деревянном футляре с рисунком, нанесенным на дерево раскаленной иглой. Вынул стеклянную пробочку, ощутимо улавливался запах розового масла — он не выветрился за десятилетия, тоже Болгария. Серебряный бритвенный прибор — стакан и мыльница. Янтарный мундштук с колечком по краю. Металлическая пластинка дагерротипа: человек со светло-русой бородой (вон откуда льняной отлив Кириных волос!) и полными губами смотрел на Петра. В уголках глаз, в приподнятой брови и задиристость и вызов. «Веселый был?..» — спросил Петр, почему-то хотелось, чтобы был веселым. Кира подняла неулыбчивые глаза: «Может быть, только веселым его я уже не помню». — «Что так?» — «Умер в муках». — «Чахотка?» — «Как у всех способных русских». Только сейчас Петр увидел второй дагерротип, поменьше. Он взял его: дом с колоннами, затененный наполовину кроной старого дерева. «Где-то в России?» — «В Москве, на Сретенке». — «Дом отца?» Она улыбнулась: «Да, Клавдиевых… — и стала хмурой. — Перед смертью все смотрел». — «Прощался с Россией?» — «Прощался и требовал». Петр переспросил: «Требовал?» Она помолчала. «Требовал, чтобы я вернулась туда, хотя бы я…» — «Обещала?» Вновь наступило молчание. «Да, обещала».
Читать дальше