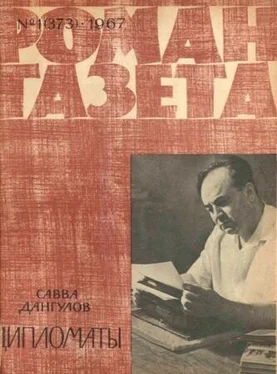Человек в фетровой шляпе стоит на берегу и смотрит на море. В стеклах пенсне бушует огонь, которым объято море. Человек улыбается. В улыбке, так чудится Петру, нет и теин восхищенного любопытства. „И на кого в наш век действует этот парад красок?“ Кажется, вот сейчас человек поправит пенсне, усмехнется и рассыплет по кирпичной мостовой дробный стук своей трости, точно иронический смешок. Петр знал: в имени человека, под которым тот был известен в городе, скрывалось нечто непроницаемо-таинственное — Фавн. Стострочные фельетоны, подписанные его именем, не разрушали образа человека, а скорее дорисовывали: „Молчаливая дума“, „Человек и его тень“, „Зачем понадобился туман?“. Одно появление Фавна на Приморском вызывало тревожное любопытство. Да и молва, которой окружил человека город, была чем-то схожа с хмуро-внимательными взглядами горожан: „Жестоко премудр, ядовит, скрытен и опасен безмерно“. Петр чувствовал, что город, сам того не желая, одел человека в броню, попробуй прошиби ее. подступись, даже если у тебя в кармане лежит письмо. Да, именно к Фавну было адресовано письмо, с которым Белодед прибыл в Одессу. Впрочем» на конверте стояло иное имя: Воровский.
— Вы когда-нибудь видели портрет Степняка? — спросил Воровский. — Вы очень похожи на него… такая же чернота в глазах лихая. — Воровский улыбнулся. — Вам никто не говорил?
Петр не ответил. Ему говорили об этом, и не однажды. И к тому же… не было второго человека, на которого Петр хотел бы походить так, как на легендарного Степняка.
Они шли окраинной улочкой (седо солнце, тишина была пыльной) и молчали.
— Для меня Степняк, — сказал Петр, — это вера, храбрость и… благородство!
Воровский остановился.
— Благородство? Однако как понимаете его вы, не отвлеченно, а применительно к жизни?
— Нет поступка благороднее, чем взять на себя чужую вину, — ответил Петр, не задумываясь.
Воровский снял пенсне и протер его.
— Это как же?
Петр вспомнил Кубань, станицу над рекой, покатые степи, разваленные оврагами, точно ударами сабли. У самого оврага жили два брата. Как в сказке: младший — добрый труженик и отец большой семьи. Старший — конокрад. Старший задумал жениться и по сему случаю угнал табун. Полиция нагрянула, когда молодые были уже в церкви. Полиция не вошла в храм. Она потребовала, чтобы конокрад вышел на паперть. Свадьба не прервалась: вместо старшего брата вышел брат младший. «Я угнал табун», — сказал он и ушел на каторгу. Говорят, вернулся в станицу стариком.
— Вот это и есть благородство, — сказал Петр и взглянул на Воровского, тот улыбался, иронически улыбался.
Они расстались. Нет, этот человек и в самом деле был одет в броню. Непросто было добраться до его сути.
— Погодите, вы сказали. Степняк… Но он был не прост и не однолик, Степняк-Кравчинский, — заметил в следующий раз Воровский, когда они шли спокойным шляхом в Новую Одессу. — Чем он симпатичен вам? Не храбростью ли?
Петр ответил не сразу — ноги мягко погружались в пыль, ботинки стали седыми.
— Храбростью… дерзкой! Не он ли на глазах столицы вогнал кинжал в грудь Мезенцева? Это ли не храбрость?
— Храбрость… — произнес Воровский.
Петр захотел сказать Воровскому что-то такое обидное, что достало бы до сердца, однако не посмел.
— Вы уверены, что тот, кто придёт на место Мезенцева, поведет себя иначе? — мельком взглянул на Петра Воровский.
Петр достал платок и пытался высушить им лицо, которое неожиданно стадо мокрым.
Лето было дождливым и холодным. Воровский работал у железной печи, а когда печь остывала, доставал плед и укрывал нм ноги. В глиняной плошке быстро высыхали чернила. Воровский извлекал из стола химический карандаш и принимался его скоблить. Потом брад с печи чайник, лил воду в плошку. Петр приоткрывал дверь, Воровский улыбался и молча указывал Петру на табурет и раскрытую книгу на столе. Петр садился, брал книгу и, скосив глаза, видел: перо Воровского как будто рушило скалы, оно продвигалось медленно. Фельетон, пока он рождался, почти не вызывал улыбки у Воровского, точно смех, как подземный гром, разразился и отгремел, не вырвавшись наружу.
Той же окраинной улицей, какой они ходили не однажды. Воровский привел Петра в городской дворик с кирпичным домом. В глубине каменного сарая он разбросал ногой ветхие доски (едва ли Петр мог угадать сейчас в этом человеке Фавна) я первым полез в черную прорубь.
— Ящики уложите здесь, — сказал Воровский, поправляя пенсне, когда добрались до дальнего отсека катакомб. — Уложите и заставьте камнями… вот так.
Читать дальше